Английского исследователя интересует не столько «кабинет» Чехова, сколько его «спальня»
Жизнь Антона Чехова. – М.: Издательство Б.С.Г.-Пресс, 2007. – 810 с.
Недавно отечественному литературоведению здорово попало. Профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд в своей книге «Жизнь Антона Чехова» ядовито уличил нас в том, что, говоря об этом писателе, «стремились воссоздать из подручных материалов житие святого». Слава богу, не отчитал заодно ещё и Томаса Манна, полагавшего, что «трогательнее и привлекательнее» чеховской биографии «вряд ли сыщется в истории литературы».
«…Источники, попавшие в наше распоряжение, – возвестил Рейфилд, – позволяют создать более полный портрет писателя, чем предыдущие попытки».
Как было не заинтересоваться! И его книга была у нас переведена, издана (издательством «Независимая газета»), переиздана (издательством Б.С.Г.-Пресс), объявлена «первой объективной биографией Чехова» и противопоставлена «всему тому ужасу, который творится вокруг Чехова в России».
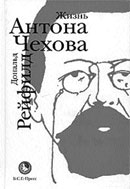 Пишущий это в журнале «Москва» (№ 2 с.г.) критик под «ужасом» в первую-то очередь разумеет «бесчисленные современные театральные версии» чеховских пьес, но этим отнюдь не ограничивается, заявляя, что «нам определённо необходима английская трость, чтобы проехаться ею по головам всех, кто делает из Чехова «доброго доктора» или «чудовище»…» («холодного циника», «безжалостного по отношению к женщинам» и т.п.).
Пишущий это в журнале «Москва» (№ 2 с.г.) критик под «ужасом» в первую-то очередь разумеет «бесчисленные современные театральные версии» чеховских пьес, но этим отнюдь не ограничивается, заявляя, что «нам определённо необходима английская трость, чтобы проехаться ею по головам всех, кто делает из Чехова «доброго доктора» или «чудовище»…» («холодного циника», «безжалостного по отношению к женщинам» и т.п.).
Мне же при упоминании о трости на память приходит эпизод из рассказа «Ионыч», где этот персонаж осматривает чужие дома «без церемоний»: «проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей… тычет во все двери палкой и говорит:
– Это кабинет? Это спальня? А тут что?»
Чеховский «кабинет» английского гостя не очень интересует. «…рассказы и пьесы затрагиваются в той мере, – поясняет он, – в какой они вытекают из событий чеховской жизни или воздействуют на неё».
Зато вот «спальня»!.. Если, как пишет Рейфилд, о Чехове «нельзя сказать, что он отличался чрезмерными половыми потребностями», то пытливость исследователя как раз насчёт этой сферы жизни поистине беспримерна.
Нисколько не сомневаясь в объёме проделанной им архивной работы, нельзя, однако, не подивиться её весьма специфической направленности, приводящей, например, к открытию того, что старшего брата писателя, Александра, «можно считать первым русским мужчиной, который документально засвидетельствовал свой опыт использования противозачаточного средства», а его сын, будущий великий актёр, был совращён родной матерью, или к подробнейшим публикациям пошлейших порнографических виршей некоторых чеховских родичей и знакомцев.
Да и другие современники, выражаясь авторским слогом, «затрагиваются в той мере, в какой» это соответствует предпочтениям исследователя. Например, Горький, «охотно посвящавший всех в подробности своих амурных похождений и даже явившийся на праздник (по случаю премьеры. – А.Т.) с потрёпанным на вид доказательством (?!)». Некая «пикантная история» поведана о Григоровиче. В первом издании книги говорилось, что М.П. Чехова служила для брата «секретарём, конфиденткой и даже сводней»; теперь вместо последнего слова стоит «свахой».
Дальше – пуще: «Невестка с золовкой в отсутствие посторонних глаз (т.е. О. Книппер и М. Чехова в Москве, без Чехова. – А.Т.)… могли позволить себе личную жизнь, не давая повода для сплетен (в первом издании: «и обойтись без сплетен». – А.Т.). Ольга по-прежнему общалась с Немировичем, а Маша с Буниным (ранее было: «У Ольги под рукой всегда был Немирович, у Маши Бунин. – А.Т.)». Вообще исследователь с женой классика – «без церемоний»: «…Её попытки подольститься к мужу напоминают реплики Аркадиной из «Чайки…», а по поводу случившегося у неё выкидыша производится азартное «дознание».
Что же касается других женщин, «посетительниц дома-комода» на Садовой-Кудринской, то они «фривольно-обольстительны»: «Лика сделала заход с другой стороны… В Париже Лика перепрыгнула (!) из одного любовного треугольника в другой… Сердце Лидии (Яворской. – А.Т.) принадлежало Татьяне (Щепкиной-Куперник. – А.Т.), хотя много чего (!) доставалось и другим – её антрепренёру Коршу, её любовнику из таможенного департамента, Антону Чехову и, не исключено, Игнатию Потапенко».
Всё это невольно начинает бросать некий отсвет на главного героя («Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты»), да, впрочем, он и сам… хорош! Притягательность книги Рейфилда для определённой категории читателей и, увы, издателей – это растиражированный «донжуанский список» Чехова:
«Лиля (Маркова. – А.Т.) подарила Антону свою невинность… Роман с Кундасовой… ни шатко ни валко продолжался два десятилетия… Между автором и редактором (Шавровой и Чеховым. – А.Т.) завязалась интрижка, но лишь спустя библейское семилетие Елена позволит Антону познать себя… У Антона начался роман с Клеопатрой Каратыгиной… Но была ещё и девятнадцатилетняя дебютантка Глафира Панова, которая тоже очаровала Антона… В ту весну к Антону подольщалась Александра Лесова, ещё недавно бывшая Ваниной (брата. – А.Т.) невестой (ранее прямо говорилось: она «Антона услаждала». – А.Т.)… Лидия Яворская бурей промчалась по жизни Чехова, вызывая в нём одновременно желание и отвращение»… «Забросил удочку» он и «насчёт» актрисы Людмилы Озеровой… «Он успел очаровать местную кокотку (во Франции, в Биаррице. – А.Т.)» и т.д.
В этой же «мере» (как и было обещано!) «затрагивается» творчество писателя. Герой повести «Три года», по мнению Рейфилда, воплощает «собственную авторскую дилемму: «никак не может решить, кого ему предпочесть: интеллектуалка не вызывает у него желания, а с красавицей он скучает». Такие вот психологические и творческие глубины, комически напоминающие утверждение исследователя, будто героиня оффенбаховской «Прекрасной Елены», виденной писателем в юности, – «мечущаяся между неудачником Менелаем и ветреником Парисом», – «стала прототипом чеховских женских театральных персонажей».
После этого уже не удивляешься, читая, что при работе над «Тремя сёстрами» «пришлись кстати» пользовавшаяся популярностью в Москве 90-х годов позапрошлого века «оперетта С. Джоунза «Гейша» и её сюжет – любовные похождения трёх английских офицеров» (наконец-то сыскались истоки образов Вершинина, Тузенбаха, Солёного!).
«Привлекая» чеховские произведения, Рейфилд говорит о них с небрежной беглостью: «Жена» – довольно слабый рассказ, как все (!) чеховские истории, повествующие о конфликте идейного врача (но герой этого рассказа не врач и нисколько не идейный человек! – А.Т.) с беспринципной женой (честнейшим человеком! – А.Т.) и о том, что фиксация на личных страданиях плохо увязывается с альтруизмом» (ранее было сказано ничуть не вразумительнее: «личные переживания вредят человеколюбию»).
Кроме того, профессор грешит прямыми неточностями и грубейшими ошибками.
Назвав «Лешего» «на редкость неуклюжей и скучной пьесой», игриво именует её дальнейшую трансформацию в «Дядю Ваню» «эксгумацией» (!), совершённой при помощи «хирургии и алхимии». Содержание пьесы в его изложении таково: «городские жители расстаются с родственниками, подавленные их жалким существованием в оскудевшем поместье», а няня Марина характеризуется как «хранитель мрачных (?!) домашних тайн».
«Кульминация повести – разочарование в старике, поначалу казавшемся загадочным и таинственным», – говорится о повести «Степь», где ничего похожего нет. «Учитель словесности» – это, оказывается, не только «история провинциального учителя гимназии, решившего ради денег (?) жениться на своей бывшей ученице (?)» (всё это чистый поклёп на искренно влюблённого героя), – но ещё и «зашифрованный вежливый отказ Суворину», который, по убеждению Рейфилда, всерьёз предлагал Антону Павловичу жениться на своей одиннадцатилетней дочери.
Тут приходится сказать, что в иных случаях прочтение исследователем писем Чехова и его знакомых весьма простодушно и не улавливает ни иронии, ни разнообразных подтекстов, ни скрытых цитат. Так, явно интригующее Рейфилда место из телеграммы суворинской жены: «Бог с тобой Микита не будет тебе счастья. Марина» – всего-навсего изменённая цитата из толстовской «Власти тьмы», шутливый выговор Чехову за отсутствие писем с дороги на Сахалин, да и «розыгрыш» любопытствующих – от скучающих телеграфистов до, как оказалось, будущих биографов.
Кстати, Анна Ивановна вспоминала об «условиях», которые ставил «жених» Чехов: «Чтобы ваш папа, Настя, дал мне за вами в приданое свою контору в мою собственность… пусть даст за вами свой ежемесячный журнал, но обязательно с его редактором, в мою собственность». Нужен ли был после этого «зашифрованный вежливый отказ»?!
По мнению исследователя, в «Анне на шее» звучит… «мотив женоненавистничества», а в «Доме с мезонином», «как это часто (!) бывает у Чехова, конфликт возникает между двумя сторонами его собственной натуры – между трудолюбивым землевладельцем и созерцателем-художником или между сторонником женского равноправия и женоненавистником».
В «Чёрном монахе» внезапно вычитывается «политический подтекст»: «действие сосредоточено вокруг огромного, приходящего в упадок сада» и «сегодняшний читатель безошибочно (!) соотнесёт деспотичного хозяина сада с властью предержащей, безумного героя – с бунтовщиком, а сад – со всей Россией…» Что же касается «Вишнёвого сада», то там, утверждает автор книги, «старшее поколение сохраняет свой авторитет (это Гаев-то с Раневской! – А.Т.), а у молодых рушатся планы и надежды». Ох!..
«У Чехова, – считает исследователь, – …был своего рода моральный ущерб… он никогда не мог понять, за что обижаются на него люди, чью частную жизнь он выставил на посмешище».
Между тем ничем другим рейфилдовский Чехов, похоже, не занимался! Сотрудничая в столичных «Осколках», выставлял на посмешище московских литераторов и издателей, каковое «предательство (так! – А.Т.) было оплачено по цене восемь копеек за строку». Знаменитая «Попрыгунья» – ясное дело! – «искусно завуалированное» «отмщение Антона Левитану, Кувшинниковой и Лике» за «вероломный поступок» художника, почудившийся, сдаётся, не столько Чехову, сколько бдительному исследователю.
Никому от чеховского пера не сдобровать! «Если согласиться с намёками, сделанными С. Сазоновой (которую сам же автор книги называет «охочей до сплетен». – А.Т.) в дневнике, на то, что прототип героини («Бабьего царства». – А.Т.) – Анна Ивановна Суворина, то завод (которым владеет героиня повести. – А.Т.) следует считать аллегорией суворинской (медийной, как бы мы нынче сказали. – А.Т.) империи».
Застрелился суворинский сын? «Так родилась тема пьесы «Чайка». В ней фигурирует, кстати, и «безжалостно высмеянный» Потапенко (это Тригорин-то?). С него же «кажется списанным» и «безответственный» Панауров («Три года»). В пьесе «Три сестры» «ошельмован» другой литератор того же круга – Н. Ежов.
«Списывание» начинает выглядеть в книге едва ли не как главнейший творческий метод Чехова. «По замыслу в пьесе (которую поначалу собирались писать вместе с Сувориным. – А.Т.) должна быть выведена семья Сувориных (?!) …Идеалисты и чудаки, с которыми сталкивает их жизнь, списаны с Линтваревых и Чеховых». «Не вовремя затеянная Александром (Чеховым) свадьба отразится в пьесе «Леший».
Можно подумать, что чуть ли не все произведения писателя созданы из подобных «подручных материалов»! Да и в других случаях не обошлось без ныне «распознанной» исследователем «подсказки».
«Уезжая от Суворина, Чехов без его ведома (тоже характерное для автора стремление поставить герою всякое лыко в строку. – А.Т.) взял у него последние три выпуска «Вестника Европы», в которых был напечатан очерк И. Соколова «Дома», рассказывающий о тяжкой судьбе русского крестьянства и давший толчок суровой чеховской прозе, появившейся после «Чайки». Выходит, лишь теперь «его ум встревожили мысли о тяготах крестьянской жизни»!
Или того лучше: «Один из обитателей Ниццы пробудил в Чехове политическую сознательность (!!)… Его (соседа по пансиону. – А.Т.) «обворожительные улыбки» и «деликатная и чувствительная душа» постепенно обратили Чехова в дрейфусара».
В своё время весьма осведомлённый современник А. Амфитеатров высмеивал предположения о каком-либо влиянии Суворина на Чехова, говоря, что это подобно утверждению, будто «статуя была изваяна из мрамора восковой свечкой». Так что уж говорить о роли, якобы сыгранной в чеховской духовной жизни случайным соседом по табльдоту – коммерсантом средней руки, упоминавшемся в письмах Антона Павловича с добродушной иронией!
Вернёмся к «аморальному уровню» Чехова, так сказать, «кисти» Рейфилда. Мало того что брал книги без спроса, «не торопился отрабатывать авансы», «влекомый злорадным любопытством», ходил на бенефис Яворской и «насплетничал» о ней Суворину, но и всячески стремился угодить своему столичному покровителю; «начал демонстрировать (!) преданность Суворину» и, «предугадав его вкусы» (по мнению Рейфилда, «предпочтение болезненной сексуальности и откровенный натурализм»), потрафил им в «Агафье» и «Ведьме», где, как сказано в книге, «героиней выступает темпераментная женщина, которая восстаёт против мужа» (особенно это похоже на робкую «бедную бабёнку» из первого рассказа!). А вот и новый чеховский «грех»: когда он много позже в письме к Суворину похвально отозвался о другом издателе, Сытине, в книге это названо «настоящим плевком (!) в душу» адресата.
С изумлением читаешь, что «Антона привлекала роскошь». Доказательства? Извольте. «Мне нужно 20 тысяч годового дохода, так как я уже не могу спать с женщиной, если она не в шёлковой сорочке», – пресерьёзно цитирует Рейфилд якобы уличающее «корыстолюбца» письмо. Ещё «убедительнее» утверждение исследователя, будто бы «Антону было приятно почувствовать себя «содержанкой» – он сам про себя сказал, «ехал, как железнодорожная Нана» (по Европе вместе с Сувориным. – А.Т.), и наслаждался роскошью спального вагона…». Чувство юмора, где ты?!
Хорошо ещё, что писатель не полностью погряз в роскоши и разврате и, хотя бы «протрезвив голову после дружеских попоек (или, как сказано, в первом издании книги, «на трезвую голову». – А.Т.) …хлопотал о помощи сахалинским детям».
Зато уж с женщинами так немилосерден, так охладевает «потом», становясь столь равнодушным, что Рейфилд считает себя вправе уподобить Антона Павловича… гепарду, который «способен совокупляться только с незнакомой самкой».
Но вот читаешь приводимое в той же книге письмо «гепарда» Суворину: «У меня бывает… кто? Как бы вы думали? – Озерова, знаменитая Озерова-Ганнеле (одна из лучших ролей актрисы. – А.Т.). Придёт, сядет с ногами на диван и глядит в сторону; потом, уходя домой, надевает свою кофточку и свои поношенные калоши с неловкостью девочки, которая стыдится своей бедности. Это маленькая королева в изгнании». И столько здесь нежности, грусти, сочувствия, что как-то стыдно задаваться вопросом: что же меж ними «было»? «Взошёл или не взошёл», как выражался в вышеупомянутой оперетте ревнивый супруг Прекрасной Елены?
«Петербург гудел от сплетен», – говорится в книге об атмосфере, окружавшей личную жизнь молодого Чехова. И как-то не по себе становится оттого, что век с лишним спустя подобное «гудение» возобновляется и подхватывается «охочими» людьми.

 Андрей ТУРКОВ
Андрей ТУРКОВ