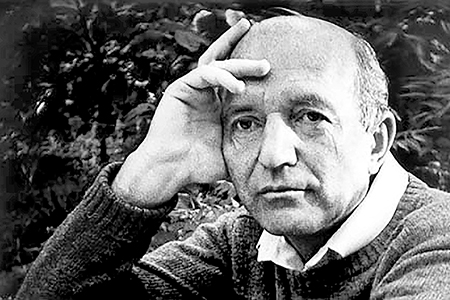Анатолий Бергер – петербуржец. Родной город надолго он покидал трижды. В раннем детстве с родителями – в эвакуацию под Уфу («Эвакуация – бараки жёсткие, эвакуация – закаты жёлтые»). Служба в армии в Заполярье, на островке Витте. И по приговору советского суда – в 1969 году – 4 года лагерей в Мордовии и две ссылки в Сибири.
Ещё одна кара – долгие годы непечатанья. В 1990 году поэт был реабилитирован «за отсутствием состава преступления». С 1992 год – член Союза писателей Санкт-Петербурга, с 2015 года – член ПЕН-клуба. С 1990 года у него вышло 16 книг. Публикации в антологиях (в том числе в собрании Евгения Евтушенко «Строфы века»), в альманахах, журналах, газетах в России и за рубежом. За подборку стихов альманах Союза писателей России «Лёд и пламень» наградил его первой премией.
Карцер
Когда меня втолкнули в карцер и дверь проскрежетала по-тюремному, я вспомнил слова Бориса Пэнсона, что каждый зэк должен посидеть в карцере, иначе это и не зэк. «Накликал, чёрт!» Ну ладно, на то и лагерь. Я не подчинился приказу начальника лагеря. Он велел разгрузить машину с опилками, а я был освобождён санчастью от погрузо-разгрузочных работ. Начальник был пьян, бледен и зол.
– Ну, пойдём, – сказал он мне в ответ на отказ.
– На пять суток его, – буркнул охране.
Зэки в рабочей зоне провожали наше шествие любопытными взглядами. Дело шло к вечеру. Меня вывели из рабочей зоны и через весь лагерь повели в карцер. В помещении надзорсостава отняли ватник, шапку. И вот втолкнули в закуток…
Три шага вдоль, полтора – поперёк. Койка деревянная откидывается на ночь. Пенёк-столик и пенёчек-стул. Ни сесть, ни лечь. От окна холодом веет, от печки в стене – угаром. Книг, газет – нельзя. Даже бумагу на оправку дают не газетную. Еда через день. Что это – понял назавтра.
Вечером дали мне ужин – кирзовую кашу и облезлый кусочек рыбы, кусочек черняшки, кружку кипятка, подкрашенного коричневой жижей. На ночь откинули доску. Постели не положено. Так и прокрутился всю ночь на доске от холода и угловатой неприютности голого дерева. Шныри заглядывали в камеру по-волчьему, топотали по бетонному полу в коридоре.
Утром – скрежет, крик, топотание снова. На оправку, мытье – минуты три, не больше, – нечего рассиживаться, не у тёщи в гостях. Сунули в кормушку тёплую воду, уже без жижицы, и кусочек хлеба – грамм двести. Это на весь день. Вот тут и пахнуло голодом, слабо ещё, но заметно. Я тот день держался молодцом, сочинял стихи, мерил камеру шагами туда-сюда, писал строки пальцем на пыльном стекле оконца. Два стиха сочинил, вчертил в пыль и ходил дальше, поглядывая на них иногда.
За оконцем зарешечённым весна набухала. Я это угадывал, а увидеть нельзя было, решётки плотные, тяжёлые – мешали. К вечеру пришла голодная тоска. Мечтал о завтрашней миске баланды как о радости чудесной. Думал, как буду каждый глоток впитывать, вбирать в себя, радоваться следующему за ним, как хлеб стану по крошкам лелеять, каждую крупинку обсасывать. Ночью дерево доски стало чуть ли не роднёй, так устал за день ходить. С утра день потянулся, как болото. Ходить я устал, лежать на полу страшно – бетон под тонким настилом, сесть негде. Стой, как лошадь, у стены. Время умерло…
Оно вправду иссякло. Осталась тяжесть недвиженья его. И я в ней. И нет этому конца, и начала нет. Так и маялся. Понял истину этого слова – «маяться». И, наверное, не самое оно точное, есть в нём всё-таки двигательное что-то, маятниковое. А тут недвижимость была, безглаголие, что-то длинное и мутное. И когда принесли миску баланды наконец-то, я уже и не верил, что время пришло, – просто принесли еду, которую ждал, может, тысячу лет ждал, может, жизнь всю.
И как я ел эту баланду, как вникал в самую основу состава её! Крупинку всякую, капустинку, картошки уголок чуял, как спасенье. Как хлебные крошки всасывал по одной! Думал, вот теперь-то я узнал цену пище. Теперь понял, как надо есть. Не глотать кусками, не жевать спешно сквозь болтовню и постороннюю мыслишку, а впитывать прямо в кровь свою, в плоть. Так я думал тогда. На собственной шкуре пережив голодные муки, понимал, что к чему.
Так дальше и шло. На четвёртый день уже не мог стоять долго, не выдержав, ложился на пол. Потом месяца два-три под лопатками болело, дохнул бетон в спину преисподним холодом своим. Когда вышел наконец из карцера, полчаса кружило-мотало, товарищи поддерживали за плечи, а то бы упал.
Весна уже пришла в Мордовию, чернело, мокрело вокруг. В глазах зелено было и от карцера, и от весны.
Птичка
За огромным колюче-проволочным забором, за высокими, голенастыми, насупившимися вышками, где маячила почти недвижная фигура часового с карабином за плечами, летом поблёскивающая отомкнутым штыком, зимой полузанесённая снегом, за всей этой угрожающей стеной неволи разбегался вдалеке хмурый лес, чужой и неприютный. Редко доносился оттуда вороний карк или сорочье стрекотанье, не слыхать было синичьего торопливого звяканья. Но на территорию лагеря птицы залетали, их приманивали кухонные отбросы, и они часто мелькали, прихватывая добычу, отнимая её друг у друга, шумно вздоря, а то и вступая в драку.
Однажды я, отработав свою смену и выполнив норму, шёл за бараком, где мы, зэки, помещались, и вдруг увидел мелкую птичку, запутавшуюся в вязкой сетке. Она билась, вырываясь, но тонкие когтистые лапки ещё больше увязали в узлах сетки. Я сразу понял, чьих это рук дело: в наш политический лагерь, случалось, попадали уголовники. Сболтнув что-нибудь антисоветское в своём уголовном окружении и немедленно, по навету стукача, оказавшись в лапах опера, они переправлялись к нам и начинали здесь жить своей воровской привычной жизнью. Узнать их было легко – их мертвоглазые тусклые лица сразу выделялись.
Я с трудом выпустил измученную птичку, она, словно не веря себе, трепыхаясь, полетела прочь от злого места. Через несколько дней я снова увидел, как билась в тенётах новая жертва, птичка серенькая с коротким хвостиком. Первая была чуть покрупнее и цветом темнее. Немало потрудившись, я отпустил на волю и эту.
На следующий день я зашёл за барак, где меня уже ждали двое, я сразу узнал наших уголовных пришельцев. Они подошли ко мне, будто подкрадываясь (типично уголовная повадка), и тихо, как у них принято, заговорили:
– Ты чего тут ходишь?
– Где хочу, там и хожу.
– Зачем птиц выпускаешь?
– А зачем вы их ловите?
– А нам поесть надо, мы без подогрева сидим. («Подогрев» по-лагерному – «посылка из дому».)
– А птицы чем виноваты?
– А тебе какое дело? Ты этих птиц не выращивал.
– И вы не выращивали. Не дам вам их убивать.
– Смотри… В наших лагерях так не делают. Знают, чем кончится.
– А здесь не ваш лагерь. Не пугайте, не первый год срок мотаю.
– Ну смотри…
И, косо глянув на меня, ушли, не оглядываясь, мелко ступая, словно заметая следы. Больше я их ловушек не находил. Срок мой шёл к концу, впереди маячил этап в Сибирь. Я уже ничего не боялся…
Карандашик
На другой день с утра вдруг захотелось мне писать. Авторучку отняли – в тюрьме на этапе не положено, а карандаша у меня не было. Не помню, был ли бумаги листок. Не знаю почему, стал я искать карандаш в камере. Конечно, его не было. Но душа моя взмолилась всей силой о карандаше. Господи, как я хотел найти его! Под кроватями, среди тёмных, цепких их пружин, на батарее, под батареей, на окне, на столе, под столом. Господи, как я хотел найти его! Под каждой ножкой стола, стула, в каждой выбоине пола, снова на столе – неужели же нет? Ведь нужно же мне! И потрясён был до глубины сердца, вдруг увидев огрызочек карандашный в проёме между одной из ножек стола и крышкой его. Огрызочек этот маленький, как продолжение пальца, круглый, с толстым грифельком, с голубоватой обшарпанной деревянной шкуркой, словно ждал меня, моего душевного моления к нему.
Я долго хранил его; только в Сибири и потерял нечаянно, в КПЗ, на шмоне очередном. Несколько стихов в пути начиркал я этим карандашиком. Само его явление во многом побудило меня к сочинению этих стихов, потому что в тюрьме мне не писалось, неба не хватало. Так целый следственный год у меня почти ни строки не было.
Между тем, пока я радовался карандашику, наступил обед – баланда челябинская хуже мордовской, хотя баланды эти все «хуже». Едва я покончил с ней, меня крикнули на этап, недолго же поблаженствовал я в челябинском подвале. Снова воронок, снова столыпин. На этот раз без разговоров в одиночную клетку. В путь!