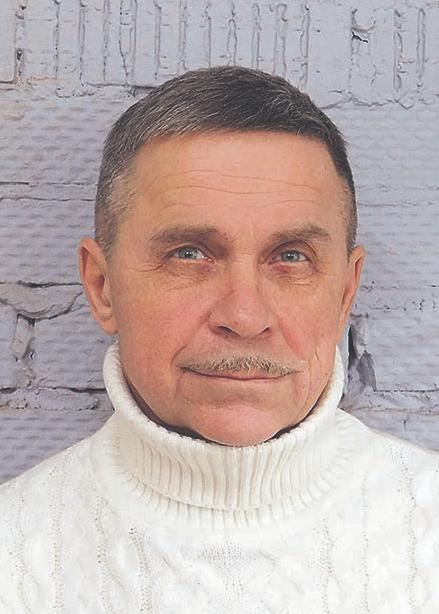
Сергей Шумский
Прозаик. Родился в 1962 году на Алтае. В 1985 м окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета. Проза публиковалась в российских и зарубежных изданиях, пьесы входили в шорт- и лонг-листы международных драматических конкурсов. Живёт и работает в Ижевске.
* * *
Та моя поездка на родину проходила традиционно. Сначала заглянул к родителям, которые встретили меня в полнейшем соответствии с хлебосольством гоголевских старосветских помещиков. Они, как и всегда, ждали меня в гости не одного – с семьёй, но этого давно уже не случалось. Дочка подросла, и ей стало неинтересно ездить в далёкую Сибирь, когда на каникулах столько развлечений – летние лагеря с подружками, какая-нибудь Турция или любимый Крым. Жена же и вовсе за многие годы всего раз только составила мне компанию.
Матушка горестно вздохнула: «Опять ты один», отец только крякнул на это, тоже с расстройством – очень он любил свою единственную внучку. Были, были такие лета, когда в большом деревенском доме вместе собирались дети их сыновей – внуки и внучка. Дом наполнялся детским весельем и тихой радостью бабушки и деда, жизнь которых, пусть ненадолго, зато до самых краёв оказывалась полна смыслом.
Вся любовь и всё хлебосольство стариков обрушились на одного меня.
Потом был долгий объезд родных людей и родных мест. И всегдашний вопрос – зачем я согласился отсюда уехать?
Мои беспокойные предки несколько поколений назад пришли на юг Западной Сибири из Центральной и Западной России, мешались с местными и такими же пришедшими издалека за лучшей долей, не все угнездились на новом месте. Словно энергия переселенцев и заблуждение, что где-то есть места получше, побогаче, покрасивее, чем то место, где оказался или где случилось родиться, продолжали в нас жить. Кому-то этих заблуждений передавалось много, и они продолжали увеличивать географию рода, энергии у других было совсем мало, эти нигде дальше армии или тюрьмы не бывали. С детства я с удивлением узнавал, что родственники у меня, часто очень близкие, живут в Одессе и Хабаровском крае, в молдавских Бельцах и сибирских Красноярске, Иркутске; одни, на моей уже памяти, зачем-то уехали в Среднюю Азию. Но и после таких исходов у меня в детстве оставалось полно родни, я на всю жизнь запомнил песни многочисленных в начале жизни дядек-тёток, бабушек-дедушек, братьев-сестёр – двоюродных, троюродных, а может, и ещё дальше. Некоторые племянники оказывались старше меня, а одна из тёток, наоборот, младше.
Иногда, считаное количество раз, собиралась эта толпа родных людей по какому-нибудь значимому поводу и случалось необычное – доброе, раздольное гулянье. Женщины пели на несколько голосов, к ним осторожно вплетались – чтобы не испортить песню – мужские голоса. Танцевали странные танцы вроде вальса. Помню своё удивление от их разговоров, их шуток, смеха: они же большие, многие и вовсе старые, а веселятся как дети.
Теперь, чтобы встретиться уже с очень многими из них, нужно было взять двоюродного брата – провожатого по местным кладбищам. В тот приезд я забрался ещё дальше – в предгорья Алтая, на свежую могилу дядьки, которого унесла туда да там и оставила чиновничья карьера. За «упокой» в поездке тоже было выпито немало.
Всё было как обычно. Как в любой мой другой приезд в места, где родился, вырос, куда вернулся работать после университета.
Были и встречи с коллегами по прежней работе, которые за застольной беседой уже давно перестали звать назад, а только проговаривали между тостами: «Зачем ты уехал?! Ну, ладно, что теперь…»
Были и другие встречи, которые заканчивались довольными ахами и искренним: «Не уезжай от меня, оставайся!»
Отпуск я свой заканчивал в его начальной точке – родительском доме. Я отлёживался в зале, матушка заглянула, спросила:
– Сынок, что тебе приготовить: толчёнку или куриную лапшу?
В детстве это были два моих самых любимых блюда. Толчёнка – свежеотваренная рассыпчатая картошечка, толчённая деревянным пестиком, с куском сливочного масла, сырым куриным яйцом и молоком. И лапшу матушка делала изумительную, из серой муки, узкие её ленточки не разваливались и не слипались при варке в наваристом бульоне из домашней курицы.
– Лапшичку, мама.
Заглянул отец, сел у меня в ногах, с полным пониманием моего состояния спросил:
– Лишканул немного, сын?
– Лишканул, пап. Перебрал малость.
– Баньку-то, может, уже затопить?
– Давай, пап. Только сегодня совсем немного. А завтра уж по-настоящему.
Несколько дней долгожданного праздника закончились неизбежным жестоким похмельем и бездонной тоской перед возвращением в чужой город, на который я много лет назад променял свой земной рай. Оставалось отлежаться, отпариться и тихонько податься восвояси. В поезде я окончательно приду в себя, задвину подальше расхристанные чувства и приготовлюсь дальше терпеливо жить свою жизнь.
Всё было привычно. Однако в этот раз традиционный порядок оказался нарушенным.
Я уже сидел на кухне после слегка протопленной в ранний, неурочный час бани, пил крепкий матушкин квас и пытался курить пока ещё невкусную сигарету, выдыхая дым в печь, когда залаял во дворе сильно постаревший Шарик – почуял чужого.
Матушка вышла из дома, вернулась:
– Сынок, там к тебе друг пришёл.
– Какой друг? Я ж с ними со всеми уже и повидался, и попрощался. Да и что за друг, если в дом не заходит?
Это был одноклассник, из тех, кто ушёл из школы после неполного среднего. Я же доучился, уехал в университет за тысячу километров, приехал работать в большой, но уютный город, родительское село было почти рядом, и приезжал я к родителям довольно часто, но с одноклассником этим мы, что даже удивительно, ни разу не пересеклись.

– Серёга! Как я рад тебя видеть! Я случайно узнал, что ты в гостях у родителей, сразу приехал! – гость кивнул в сторону не самого нового, но очень приличного БМВ. Видя моё замешательство – я всё не мог вспомнить его имя, – протараторил:
– Давно приехал? А уезжаешь когда?
Он был какой-то радостно-взбудораженный. Я же, наконец, вспомнил его имя и был уже от этого счастлив.
– Здравствуй, Виктор. Уезжаю когда? Послезавтра, пожалуй.
– Вот и хорошо, время есть. Я друзей собираю посидеть на речке, никого почти нету, куда все подевались? А погода-то вон какая хорошая! Приходи! А то поехали прямо сейчас, мне надо немножко закупиться, а из магазина сразу на реку.
Ещё минуту назад я с неохотой вышел даже из дома, но вдруг заразился его радостью от жизни и согласился на приглашение.
– Ты езжай. Я пешком пойду, что-то захотелось вспомнить эту дорогу до реки. А кто будет?
– Юрка Новиков с братом будет. Может, ещё сейчас кого встречу – в магазине или в баре.
– А где собираемся?
– Да где в детстве купались, у кургана. Там рядом, знаешь, нет, Юрка дачу построил, лодка у него, снасти, будет настроение – порыбачим, на остров сплаваем!
– А что за повод-то, Вить?
– Повод? – Виктор, видимо, растерялся. Он катился на волне своего восторга, а оказалось, что людям надо рассказывать, отчего у него такое хорошее настроение. – Ну да, точно! Есть повод, есть! На берегу расскажу! Давай, собирайся, через час встречаемся!
Я пошёл на реку теми улицами и переулками, какими ходил купаться в детстве.
Никому я не признаюсь, что только здесь, дома, я физически ощущаю, как расправляет свои крылья моя душа. Я так и не привык – за много-много лет! – к новому месту. Я уехал далеко от родных мест по просьбе жены. Она-то нездешняя, позвав её в свою жизнь, я взял на себя ответственность за неё. Я не сразу согласился уехать. Жена стала говорить, что на моей родине ей не климат, она постоянно болеет, что может уехать и одна. Последнее заявление, конечно, было прямой подлостью – уезжала бы она уже не одна, а с нашим будущим ребёнком…
Дачных массивов на берегу реки заметно прибавилось после детства, я даже немного заблудился в их улочках. Но курган отовсюду был хорошо виден, я к нему, наконец, выбрался. В детстве у кургана было имя – Илбан, что за слово? Поколениями, от старших пацанов к младшим переходила тайна: в кургане закопан клад! Чаще говорили о золотой колеснице сибирского хана Кучума. И каждое пацанское поколение одно или два лета своей жизни приходило с лопатами раскапывать курган. Работа на жаре быстро надоедала, пацаны бросали лопаты и уходили купаться.
– Надо с реки посмотреть! – оправдывали они свою лень.
Каждую весну большая вода уносила часть кургана. По нашим прикидкам, река размыла примерно треть Илбана, значит, на его вертикальной стенке, обращённой на воду, в любой момент может оказаться оголённой часть золотой колесницы или какого другого богатства.
Срез огромного кургана всегда оставался одинаково серым, ничего на нём ни разу не блеснуло, и легенда о кладе переходила к следующему поколению пацанов.
– Что, парни, золотую телегу пойдём искать? – пошутил я, подходя к небольшой компании.
– Давай, Серёга, сначала посидим немного, а потом видно будет, – ответил мне Витька. – Всех узнаёшь?
Я поздоровался с Юркой, его старшим братом, протянул руку незнакомому парню помоложе нас:
– Сергей.
– Николай.
Он смущённо улыбался, по этой улыбке я вспомнил одноклассника Лёшку Сивкова.
– Это… – начал я тянуть, повернувшись к Витьке.
– Ну да! Младший брат Лёхи.
– Николай, а ты в детстве золотую колесницу пытался откопать здесь? – кивнул я на Илбан.
Парень расхохотался:
– Да мы здесь с братьями самую глубокую яму выкопали, целый шурф. И не один, штуки четыре, по-моему. Нам и сестрёнки помогали.
Он погрустнел и добавил:
– Очень уж скромно мы жили, так хотелось разбогатеть, купить себе всего.
– Скоро разбогатеешь, нас держись!
Это сказал старший брат Юрки. Он не хвастался и не врал молодому, обещая скорое богатство. Братья Новиковы, а с ними в компании и Витька крепко встали на ноги, за какой бизнес они ни брались, всегда оставались в хорошей выгоде. Недавно они затеяли новое дело – купили речной буксир, баржу и как раз собирались в своё первое плавание. Спускаясь вниз по Оби, они собирались торговать разными полезными товарами, а на обратном пути рассчитывали закупить по оптовой цене кедровый орех – шишки в тот год в тайге был добрый урожай. Младшего Сивкова они позвали к себе потому, что он профессиональный моторист и рулевой речного судна.
В детстве я мечтал стать капитаном дальнего плавания и завидовал сейчас этой компании друзей:
– А возьмите меня к себе шкипером! Или у вас уже есть, кому за баржой присматривать?
– Да хоть капитаном, – откликнулся Витька. – У нас все одинаково работают.
– Так, не будем пока о работе! – на правах старшего в компании распорядился Юркин брат. – Мужики, это тост, если вы не поняли!
– Эх, ребята, как же у нас хорошо!
– Витя, да хватит тебе уже! Третий день ты твердишь, как хорошо, да как хорошо у нас! Успокойся уже.
– Эх, ребята, да вы просто не представляете себе, как у нас хорошо!
– Ну и настрадался же ты в этой Германии, Витя!
Оказалось, Виктор совсем недавно вернулся из Германии, где прожил два месяца. Его сестра несколько лет назад вышла замуж за натурального немца, перебралась к нему на жительство, там ей очень понравилось, и она начала агитировать родителей и брата переехать к ним в Германию. Только сейчас я узнал, что Витькина мать – из поволжских немцев, которых в Великую Отечественную войну от греха подальше, переселили в Сибирь и Казахстан.
Витькина мать несколько раз уже была в гостях у дочери, всё ей в Германии нравилось, она всерьёз настроилась на переезд. Отец же Витькин и думать о переезде не хотел. Поначалу. Но вода камень точит, немецкая настойчивость супруги стала давать результаты. И нынешней весной отец поддался, согласился съездить в Германию, погостить у дочери, посмотреть страну. Один, сказал, не поеду, давай, сын, вместе.
И Витька с отцом два месяца гостили у немцев. Всю страну объехали, искали, видимо, что-нибудь похожее на Сибирь. Не нашли.
– Чтобы я там жил?! Никогда!
– Да ты не кипятись, скажи чётко, что там тебе не так?
– Да всё там не так! – Витька, понимая, что не может привести ни одного здравого доказательства, что в Германии русскому человеку, даже и немцу наполовину, жизни нет, сплюнул: – А! Вот там и плюнуть негде! – разделся и поплыл на остров.
Расстояние до острова немаленькое, мы только к подростковой поре начинали перебираться на него вплавь, да и то – в самый первый раз в сопровождении лодки. Лодка была нужна ещё потому, что обратно приплыть сил хватало не у всех.
– Пойду моторку заведу на всякий случай, – сказал старший Новиков и поторопился за лодкой.
Юрка, Колька и я стояли на берегу, высматривали, много ли сил у Витьки, а Юркин брат сидел в лодке с работающим двигателем. Витька доплыл до берега, подошёл к кустам облепихи, которые выросли там самосевом, начал есть созревшие уже ягоды.
– Питается.
– Сил на обратную дорогу набирает.
– Смотри – куст ломает!
Витька отломил большущую ветку облепихи, сплошь усеянную ягодами. Показалось, что он не только совсем не устал, но обратно плывёт даже быстрее. Ветку он держал попеременно то левой, то правой рукой, иногда ложился на спину, отдыхал.
– Дотянет. Пойду лодку на место поставлю.
Витька вышел из воды, протянул облепиху:
– Угощайтесь!
Посмотрел на нас весело:
– Кто из вас за Германию тут топил? Почему я не хочу и никогда не буду там жить? Да потому что там нет вот такого, – он развёл руки.
– И облепиху там нельзя ломать.
– Да при чём здесь облепиха! – возмутился Виктор. – Хотя и это тоже. Нельзя. Да и у нас бы не надо, но можно, когда очень хочется. Другое там всё. Не наше. Чужое. – Он обратился ко мне. – Я ж видел, как ты мне удивился. А я там в Германии всех одноклассников вспомнил, каждый мне как брат стал.
– Там, может, и плохо, а бэху-то пригнал.
– Машины у них хорошие, тут сказать нечего. – Витька вдруг явно запечалился. Он закурил и спросил меня:
– Ты не жалеешь, что уехал так далеко от дома?
– Жалею.
– А уехал-то почему?
– Дурак был.
– Ты хоть в родной стране остался.
– А ты что загрустил-то, Вить? Ты ж никуда не уезжаешь.
– Отца жалко. Он не сможет от матери отказаться, он её так любит, что я прям иногда завидую, каким счастливым можно быть с женщиной. И мать отца очень уважает. Уедет отец. Сколько он проживёт в этой Германии? Вот сестрёнка, не могла за русского замуж выйти! Из-за неё теперь всё наперекосяк пошло.
…Рыбачить мы в тот вечер не собрались. Просидели у костра до поздней ночи, нашли на небе Большую Медведицу, с трудом отыскали Малую, а больше-то никто из нас никаких созвездий и не знает, и ушли в дом спать. Вечером наступившего дня я напарился в натопленной отцом бане, на год вперёд наелся приготовленной мамой домашней лапши с домашней же курицей, а на следующее утро уже сидел в поезде, который вёз меня к любимой дочке и законной жене.
Прошла, наверное, пара месяцев, когда я узнал печальный конец истории с переездом Витькиных родителей в Германию. Отец его, с тяжёлым сердцем, согласился ехать. Дом в деревне они не стали пока продавать, чтобы отец мог обманывать себя мыслью, что ему есть куда возвратиться. Уезжали с двумя чемоданами. За домом обещал присматривать Витька. Накануне устроили проводы, пришли все соседи. Сначала сидели тихо, а потом разгулялись, все русские застольные песни перепели. При прощании многие слезу уронили, только не Витькин отец – тот будто окаменел.
В аэропорт родителей должен был отвезти Юрка Новиков, Витька много последних дней был нетрезв из-за плачущей своей души. И говорить не находили о чём, когда ждали машину. Юрка подъехал и, не желая заходить в печаль брошенного дома, посигналил. Витька подхватил чемоданы, когда вышли из дома на веранду, отец вспомнил русский обычай – посидеть перед дальней дорогой. Витька поставил чемоданы:
– Сейчас я стулья из дома вынесу!
– Не надо, сын. На чемоданы присядем.
Сели. Витька с отцом – на чемодан побольше, мать рядом, на свой, дамский. Отец с чемодана уже не встал. Мгновенно умер. Тоска по родине оказалась сильнее любви к жене. Вот такой получился развод у Витькиных родителей. Я назвал его «Развод по-немецки»…
