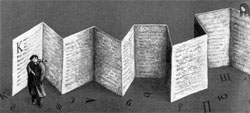 К концу 2007 года, в 11–12-х номерах «толстых» журналов, в лидеры неожиданно вырвался роман. Что само по себе отрадно как намерение писателей мыслить по-крупному. Романист ведь не просто рассказчик – поработать он даёт не только своему языку, но и своим героям. Тогда-то и происходит главное – самозарождение мысли, идеи, не терпящей мелководья и мелкотемья. Большой же мысли, как и большой литературе, нужен простор, нужны вся Россия, весь мир. Роману в основном мы и посвятим наш обзор.
К концу 2007 года, в 11–12-х номерах «толстых» журналов, в лидеры неожиданно вырвался роман. Что само по себе отрадно как намерение писателей мыслить по-крупному. Романист ведь не просто рассказчик – поработать он даёт не только своему языку, но и своим героям. Тогда-то и происходит главное – самозарождение мысли, идеи, не терпящей мелководья и мелкотемья. Большой же мысли, как и большой литературе, нужен простор, нужны вся Россия, весь мир. Роману в основном мы и посвятим наш обзор.
МЕТАФОРЫ АПОКАЛИПСИСА
Это самозарождение большого жанра происходит прямо на наших глазах в романе Романа Сенчина «Лёд под ногами» («Знамя», № 12). Та убаюкивающая хроникальность, ставшая «фирменным знаком» писателя, здесь уже не просто гипнотизирует, а заставляет сопереживать. Хочется, чтобы у бывшего рокера из Сибири Дэна Чащина всё образовалось, чтобы он стал полноценным москвичом. Если бы приехавший из-за Урала друг Димыч, бездельник и выпивоха, просто разрушил наладившийся быт Чащина, получился бы рассказ или маленькая поучительная повесть. Но автор зачем-то длит противоестественное сожительство ренегата рок-музыки и её беззаботного фаната до неизбежного разрыва. А перед читателем встаёт нелёгкая задача: хочется, чтобы и Димыч поскорее исчез, но и на сторону Чащина становиться как-то не тянет. Самое «романное» в этом романе то, что рассудить друзей не может уже никто и ничто. Включая молодого политика Сергея и его шефа Дмитрия Олеговича. Мечтой о чём-то несбыточном, как Бэла для Печорина, поманила было гардеробщица кафе Аминат. Но всё тонет в непрошибаемой профанности жизни. Крик души героя «Хочу нормально жить. Как большинство», которым он прощается наконец-то с Димычем и своим прошлым, оказался прощанием с жизнью вообще. Той, которой может не хватить даже на рассказ. Может дать твёрдую почву, но и обернуться предательским льдом под ногами.
Глеб Шульпяков нашёл метафору более впечатляющую для ускользающей из-под человека жизни. Это «Цунами» («Новый мир», № 10–11) длиной в роман, когда его герой, удачно избежавший знаменитого таиландского цунами, захотел «избежать» себя. Но перемена личности обернулась театром ужасов, который герой, сценарист по профессии, разыгрывает сам по «сценарию» катастрофы. Чужие деньги, которые могли бы дать ему свободу духа (паломничал же он когда-то по монастырям, читал Кьеркегора и Ницше и крал только подлинники Блока), сделали его маргиналом и живым трупом. Не зря в романе, всё больше деградирующем в пародийный спектакль, появляется труп, оказавшийся мощами святого. Безумный герой упокоивает его в своей квартире, обряжая в фирмовый плащ «Дизель». Корявым гротеском, карикатурой на святость и духовность зияет он в «Цунами» среди хроники самораспада бывшего театрала, заплутавшего в лабиринтах вымысла и реальности. В своей упадочности он напоминает Чащина: «Любил советское детство, верил в рок-музыку… ненавидел фашистов и презирал новую власть». Но в итоге понял, что «во мне пустота, яма, которую ничем невозможно заполнить». Это ощущение ямы, из которой нечаянно выкопали труп то ли святого, то ли панка, обзаведшегося чужим паспортом, и остаётся от романа.
То, что писатели ныне так щедры на романы и убийственные метафоры величиной в человечество, – признак если не подъёма литературы, то близящегося апокалипсиса. Во многом этому валу апокалиптических романов мы обязаны «ЖД», «2017», «2008» и прочей зашифрованной «кристаллографии». Вот и Г. Шульпяков называет катаклизм в Индийском океане «фантастической по красоте и жестокости метафорой» кризиса всей цивилизации. Роман «Расстрел» («Наш современник», № 11–12) Александра Сегеня хоть и не метафора, а историческая хроника контрреволюционного восстания в Москве октября–ноября 1917 года, но тоже не смог обойтись без современности. Для Р. «ро’кового» Сенчина и особенно «буддийского» Г. Шульпякова важнее смерть не физическая, а глубинная, зазеркальная, где у человека с десяток тел, если верить мистикам. А для православного А. Сегеня и его героев существует одно тело, одна жизнь, одна смерть, один человек, пусть даже в романе их слишком много. Это неслиянное единство героев-юнкеров (которых, как на памятной стеле, всех хочется перечислить повзводно и поимённо) и всей Белой гвардии вопиюще контрастирует с красными. Они – орда, толпа, чернь, ведомая вечно пьяными и хамоватыми Ярославским, Пятницким и КO. Ногин и Муралов интеллигентнее, но и те с червоточинкой. И уж откровенное чудовище Землячка по кличке Демон с её сатанинским кличем «Покоцаем Кремль!», т.е. постреляем в него из пушек. Безнадёжно порченные, большевики служат выгодным фоном для белых, чью «белизну» беспроигрышно подчёркивает их юность со всем полагающимся ей романтическим шлейфом (омолаживают роман и «мушкетёрские» сравнения, и красный офицер Дорогин в роли Швабрина, и т.д.). В конце романа, однако, стройная схема проходит испытание катакомбами: четыре юнкера, спасшихся от расстрела, во главе с красным Дорогиным слышат голоса защитников Белого дома октября 1993-го. Они-то и сравнивают танки Ельцина с большевиками 76-летней давности. Таким образом, путаницу с белыми и красными, возникшую в 90-е, автор хотел бы распутать экскурсией в революционные годы, где все цвета были на месте. Но только ещё более запутал, оставив своих героев в лабиринте, а читателя – в недоумении.
НЕ БИОЛОГИЯ, А ЖИЗНЬ
Как сговорившись, авторы названных романов сделали ареной своих произведений Москву. Город-слава, город-горе, город-провокация, он всегда соблазнял писателей, хотевших проверить своих героев столицей. Теперь такие «литпроверки» всё чаще приобретают характер апокалиптических, т.е. когда город-гигант гибнет вместе со своей десятимиллионной частичкой. Так уже погибла Москва советская, о чём скорбит герой Г. Шульпякова, на очереди Москва постсоветская, от которой прячутся в катакомбы герои А. Сегеня. Действие романа Николая Шадрина «Одиссея Злобина» («Москва», № 10–11) происходит далеко от Москвы и ещё дальше от современности – в Сибири XVII века. Здесь город Кызыл-Кан («Красная кровь»), свежепостроенный русскими казаками в опасном соседстве со степняками, обречён на набеги, пожары, разоры. Автор этого вроде бы далёкого от современности произведения будто бы говорит, что город был и остаётся местом, ненадёжным для жизни людей. Может быть, поэтому герой романа казак Грицко Злобин в конце концов выбирает крестьянскую долю. Вопреки алчным джунгарам и карагызам, охочим до разбоя. Но у него есть прочные тылы – дружественный народ Бирюсы, с которым он породнился, женившись на девушке с поэтическим именем Ласка-Чолчанах («ласка-зверёк»), казаки, которыми он геройски командовал однажды, а главное – доброе отношение ко всем, кто живёт на этой земле, куда русские пришли с миром, а не с войной. Злобин, он «злой» на войну, разделяющую на русских и нерусских, злых и добрых. Потому и в романе, полном битв и кровавых стычек, нет злобы к степнякам. Об этом говорит обилие тюркских слов, будто роман написан от лица противостоящей казакам стороны: «арыс» (русский), «нанчи» (друзья), «ат» (конь) и многие другие. Одиссея здесь – это «катакомбы» судьбы, из которых герой-таки выходит на белый свет.
А вот героиня романа Гоар Маркосян-Каспер «Пенелопа пускается в путь» («Звезда», № 11) совершает «пенелопею». Но Пенелопа она не простая, а армянская, да к тому же ещё преподающая русскую литературу, с которой она путешествует по Европе. Так что ничего, кроме романа, у автора произведения о филологе с большим количеством родни в Берлине, Париже, далее – везде, всё равно бы не вышло. Свободнее всего героиня чувствует себя в монологах, когда, рассказывая, например, о Маргуше из Нью-Йорка, упоминает М. Горького. Так же как всплывают вдруг классические Наташа Ростова, Анна Каренина, Болконский, который нравился ей, «пока восхищался Наполеоном». Как раз в Париже красноречие Пенелопы достигает кульминации, так что местный профессор предлагает свою дружбу и даже «вид на жительство». Впору перефразировать: «Язык до Парижа доведёт». Да и сама Пенелопа произносит сакраментальное: «В начале было Слово». Но это вначале. Ибо «армяне стали болтаться по свету ещё в незапамятные времена». Так что финальное возвращение словоохотливой Пенелопы в Ереван кажется временной остановкой в пути. «Пенелопеи» ведь – не «одиссеи», тем более злобинские, – финала не имеют.
У романа Андрея Столярова «Маленькая Луна» («Нева», № 11) финал вроде бы есть, но состоит он из нескольких «предфиналов». Речь в романе идёт о некоем фанатичном учёном-биологе, которому надо выяснить, «что есть жизнь». На этот почти по-евангельски звучащий вопрос герой по имени Арик отвечает собственной жизнью, рассказанной автором как-то рывками. Будто он поддерживает жизнь в своём герое, как тот пытался продлить жизнь своему коацервату. Выращенному в лабораторном аквариуме вроде бы и научными методами, но как бы и чудесно, мистически. Так и с Ариком. То кажется, что он – ещё один вариант «парфюмера», сам себя вырастивший маньяк, который вот-вот начнёт убивать всех, мешающих его экспериментам. То кажется, что он сам создатель очередного Франкенштейна. Но в критические моменты писатель словно передумывает, переключая регистр повествования на поэтику «биологического» романа (см. романы В. Каверина, В. Дудинцева или Д. Гранина) с обилием спецтерминологии и парткомами на его нелёгком пути. Но он далеко не идеален, когда, например, расчётливо женится на той, которая обеспечит ему быт и досуг. Пройдя через все передряги (перестройка и проч.) и искусы (любовь к фантастической Регине), Арик дотянул до финала – явления монстра под алхимические манипуляции и оккультные заклинания – и только потом умер. Прожив жизнь, как «маленькая Луна» – «поглощающая лучи и влияющая на энергию психики». То есть и не человеком вовсе, а искусственным объектом, представляющим угрозу для человечества.
НЕ СХОДЯ С КРЫШИ
Но зачем выдумывать, когда есть вполне реальные, исторически достоверные люди?.. Жанр «нон-фикшн» всегда составлял здоровую конкуренцию роману и в этих номерах «толстых» журналов тоже не подкачал. Яркий автопортрет человека, прошедшего через опыт отождествления себя с историей, даёт Юрий Карякин в «Перемене убеждений» («Знамя», № 11). Посвятивший свои мысль и перо Достоевскому, самому рефлектирующему среди русских писателей, он здесь выглядит поразительно, не по-достоевски прямолинейным. Началось всё со статьи в одном ревизионистском журнале и продолжилось в истории с плагиатом И. Глазунова. Восходящая звезда ревизионизма и достоевсковедения тогда едва «не отвесил пощёчину» художнику. А когда история взяла круче, пытаясь притормозить расшалившееся шестидесятничество, Ю. Карякину однажды очень захотелось «дать по морде» одному своему незадачливому поклоннику сразу после триумфальной речи о Платонове. Сумасшедшее время перестройки как нельзя лучше соответствовало его темпераменту кулачного бойца: предложив перезахоронить Ленина, он послал «куда подальше» тех, кто его отговаривал. В декабре 93-го, после победы Жириновского на парламентских выборах, он «едва удержался от того, чтобы не вскочить и не дать ему в морду». Зато не удержался всенародно заявить знаменитое: «Россия, ты одурела. Опомнись!» Как сказал бы кумир Ю. Карякина, «широк русский человек, я бы сузил». Но если «сузить» Ю. Карякина, его брутально-интеллектуальную публицистику, то картина эпохи конца 80-х – начала 90-х много потеряет.
Ещё несколько голосов из 60-х звучит в публикации Зои Богуславской «Действующие лица: 1990-е – 2000-е. Из цикла «Невымышленные рассказы» («Октябрь», № 11). В первом рассказе автор воспроизводит обстановку тех жарких лет, когда творческие люди зажигались не индивидуально, а друг о друга. Так было у Ю. Любимова с В. Высоцким, первый из которых был театральным диктатором, а второй – Франсуа Вийоном своего времени. Если бы не Любимов, гитарный поэт не разглядел бы в себе Гамлета и Пугачёва. А если бы не было Высоцкого, Любимов лишился бы опыта «чисто человеческого общения». Так что и сама автор в итоге не смогла определить, «в чём именно состоял тот особый магнетизм, который притягивал этих двух столь непохожих художников друг к другу». Наверное, всё-таки сама эпоха, которая не позволяет рассказывать о своих «звёздах» в отрыве от других, без хотя бы упоминания А. Вознесенского, З. Церетели, А. Эфроса, В. Аксёнова, Н. Губенко и целой плеяды актёров-таганцев. Такое уж было время – «коллективное».
Есть, впрочем, в материале З. Богуславской и главы о художниках одиноких – Рустаме Хамдамове и Василии Аксёнове. Оба – заядлые постмодернисты. Один вечно «незавершён», как вечно незавершён всеядный, жадный до чужих цитат постмодернизм; другой только и делает, что «завершает» один за другим свои новые романы. Впрочем, сам автор целого созвездия романов, противореча себе, говорит об «умирающем жанре романа» и о поэзии как «древнейшем и вечном жанре». Но, как мы знаем по «Москве-кве-кве», сам В. Аксёнов успешно сочетает оба жанра, что, конечно, вполне в духе того универсального жанра романа, который не знает границ. Как ясно и другое – насколько противоречивы наши ветераны шестидесятничества: один, как Ю. Карякин, – Достоевский «с кулаками», другой, Ю. Любимов, может сказать, что «с удовольствием перечитал постановления… о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Стихи, однако, могут преобразить и рассказ – жанр менее предсказуемый, чем роман. Герой рассказа Леонида Бородина «До рассвета» («Москва», № 12) – специалист по второ- и третьестепенным поэтам пушкинской поры – человек явно романного склада. Он стоит ночью на крыше перед шестью зажжёнными окнами соседних домов, надеясь «проникнуть в души всего человечества». Или прыгнуть вниз, а может, телепортироваться в неспящие окна. Его возвеличение Батюшкова и Шаликова, Мансурова и Козлова сродни оправданию безвестных душ человечества, серо живущих в своих городских многоэтажках. Знает он и тщетность любви ко всему второстепенному (доказано ведь, что Пушкин и плеяда современных ему поэтов «давно оценена по достоинству и в самозванцах-адвокатах не нуждается»). Как тщетна его вера в порядочность, включая собственного сына. Так что лучше бы герою и дальше витать в облаках старинной поэзии и не спускаться бы ему с крыши на грешную землю вообще.
«КАЙФ» ОТ РОМАНА
Вообще рассказы и рассказчиков всё больше почему-то тянет в туман – в неясность или странность поведения своих героев, мотивировки их поступков. Вот и в рассказе Олега Зоберна «Кола для умных» («Знамя», № 12) молодому Даниле хочется на «подобное» (неурядицы и беды своей жизни) ответить «подобным», чересчур «подобным». Не меньше чем осквернение иконы на кладбище возле свежевырытой могилы с фамилией Рассказовы. Глядя на которую этот самый Данила, чьей персоны едва хватает только на рассказ-коротыш, задумчиво отмечает, что фамилия-то жанровая, так и склоняющая к кощунству.
Неплохой, однако, образ-символ жанра, которому уже готовят место на кладбище. А может, действительно с «толстожурнальным» рассказом что-то такое происходит: он либо впадает в летаргию, либо тихо перерождается? Так иногда думаешь, знакомясь с малой прозой Андрея Илличевского. Герой его рассказа «Штурм» («Новый мир», № 12) Фёдор «не понимал себя следопытом или охотником, как не сознают себя птицы и звери… Он мог без причуды отождествить свои глаза с заливом», а резкость его зрения «есть качество не тела, а близлежащего мира». Мир же тут традиционно «илличевский» – водный, прикаспийский, с пейзажем, где флора и фауна довлеет над человеком, причудливо деформируя или облагораживая (грань очень тонка) его суть. Такой вот Фёдор мечтает о «возможности воцарения незримой птицы: не стеклянной и не невидимки, а такой, которая словно бы текла». И лишь в такой прозе, напоминающей жидкое стекло, твердеющее только в моменты сюжетного трезвения, возможно соитие старика Фёдора и девочки Тамилы, его дальней родственницы. Но если вглядеться, то ничего в этом рассказе нет, кроме пушкинской «равнодушной природы», уравновешивающей жизнь и смерть, человека и птицу, любовь старика и томление девочки.
На этом размытом фоне даже поэзия выглядит кристально ясной. Поэтическим лидером этих ноябрьско-декабрьских номеров можно считать Елену Елагину, выступившую сразу в двух журналах с отличными стихами. В «Звезде» № 12 хорошо состыкованы стихи «Молитва» и «Тост». Такую молитвенную, кроткую ясность редко встретишь в ином рассказе: «О, Господи, Ты Сам сумеешь всё устроить / И даже иногда к добру всё, может быть, / И что, скажи, Тебя напрасно беспокоить, / Когда Ты знаешь Сам, о чём Тебя просить?» «Тост» – та же «Молитва», только «от противного». Ибо нельзя всерьёз пить за здравие «поэтов-педерастов», «за время, которому на фиг / не нужен ни Бог, ни пиит», ни за «чудачества Бога / и за молодое хамьё». Читатель вполне понимает эту вынужденную инверсию смысла и молится за то, чтобы эти «гимнослагатели дна» оставили «скрижали» и «крутили кино». В другой подборке в «Дружбе народов» (№ 12) поэтесса многозначительно повторяет начальную строку своего стиха: «От прозы кайф другой», в его конце добавляя: «Но вновь стихотворенье / Выводит от труда отвыкшая щепоть». В этом противительном «Но» Е. Елагиной можно уловить сродство «кайфа» прозы и поэзии, даже если он «другой» и разный.
Читатель, думается, смог бы словить «кайф» в «толстых» журналах этих двух предновогодних месяцев именно от романов. Все они на разный вкус, для разных «кайфов», но при всех их уклонах и причудах по-своему интересны. Потому что каждый умеет довести читателя если не до слёз, так до финала – что уже немало. Будь то смерть от недостатка почвы под ногами, персональное цунами, расстрел белой, очень белой гвардии, «одиссеи» и «пенелопеи» или «франкенштейн», рождённый в серых стенах ЛГУ. Или ещё один роман, представляющий собой сплошной «кайф», который мы специально оставили на десерт. Это «При свете мрака» («Новый мир», № 12) Александра Мелихова. Его героем является мужчина в обоих смыслах слова, чей путь к красоте труден и тернист. Потому что зло и уродство предстаёт перед ним с кусачками, которыми ревнивый муж хочет оттяпать подозреваемому в прелюбодействе главное мужское достоинство. Так вот, под знаком кусачек, занесённых над его любовным «ключом», которым герой призван отпирать если не сердца, то заветные врата «в райский палисадник», и проходит петляющая жизнь героя. Но ещё больший кайф доставляет анафема героя современной иезуитской филологии – этих «кусачек» для кастрации литературных красот: «Для начала истребляются слова «поэма», «роман», «новелла» – всё это становится текстом, как у болванов от кибернетики всё на свете… превращается в информацию… Но даже эти упыри догадываются, что живой человек способен полюбить лишь другого живого человека, поэтому всех творцов можно изобразить тоже мертвецами – «скриптор»… лишь перерабатывает одни «тексты» в  другие, подобно самим мертвецам». Похоронив в конце романа свою первую любовь из спивающейся деревеньки, герой подводит итог роману: «С тех пор мне и открылось, что пресловутая духовность – способность жить грёзами – не украшение, не глазировка на булочке, а самый что ни на есть настоящий хлеб, вода, воздух… Словом, жизнь».
другие, подобно самим мертвецам». Похоронив в конце романа свою первую любовь из спивающейся деревеньки, герой подводит итог роману: «С тех пор мне и открылось, что пресловутая духовность – способность жить грёзами – не украшение, не глазировка на булочке, а самый что ни на есть настоящий хлеб, вода, воздух… Словом, жизнь».
Тот же итог могли бы подвести и мы в этом обзоре. И пусть повесть и её авторы не обижается, что оказались вне рамок этого «романного» обзора. Они ещё своё наверстают.
, НОВОСИБИРСК
