Мы – последние этого века.
Мы великой надеждой больны.
Мы – подснежники.
Мы из-под снега,
Сумасшедшего снега войны.
Владимир Костров
Один из поколения «подранков», детей войны, Владимир Высоцкий говорил: «Часто спрашивают, почему я всё время возвращаюсь к военной теме… Война всегда будет нас волновать – это такая великая беда, которая на четыре года покрыла нашу землю… У меня в семье есть и погибшие, и большие потери, и те, кого догнали старые раны, кто погиб от них. Отец у меня – военный связист, прошёл всю войну… У нашей семьи было много друзей-военных, я в детстве часами слушал их рассказы и разговоры, многое из этого я в своих песнях использовал. Мы дети военных лет – для нас это вообще никогда не забудется. Один человек метко заметил, что мы «довоёвываем» в своих песнях…»
Поэт Юрий Кузнецов, у которого отец погиб на войне, писал: «Я родился в прозаическом двадцатом веке. Впрочем, он тоже героический, но по-своему. И в нём оказался только один богатырь – русский народ. Он боролся с чудовищами и даже с собственной тенью». Подтверждением тому слова фронтовика, писателя Константина Воробьёва, который находил истоки этой непобедимости в отечественной истории: «Невозможно, нельзя было победить русских Наполеону, потому что солдаты надевали чистые рубахи и молились Богу перед боем».
Вот отчего великая наша современница Юнна Мориц из поколения «подранков» часто в одиночку, бесстрашно бросается в бой с «тиранией либералов», для которых «Бессмертный полк» – это «победобесие», для которых под копирку с западной клеветы – нацистская Германия и СССР равны, и нашу страну обвиняют в развязывании войны: «…когда бомбят Сербию, Ирак, Ливию, объявляют врагом Россию, тогда шарик не маленький. А когда говорят правду об этих бомбёжках, нескончаемых войнах, массовых жертвах агрессии Запада, о тайных пыточных тюрьмах в Польше, в Литве по заказу Америки, тогда шарик маленький. Но особенно этот шарик маленький, когда читателей много у Юнны Мориц, которая «ужасна»: в её «ужасных» стихах не Россия – абсолютное зло, а русофобский фашизм. Да, говорю, русофобия – это фашизм. Надо быть русофобом, чтобы киллеры этой шпаны возлюбили тебя, как Быкова. Не дождётесь!»
Если на Страшном суде потребуются свидетельства о преступлении германского «сумрачного гения» против нашего народа, то среди развёрнутых обвинительных свитков обязательно будут предъявлены и стихи Виктора Пахомова. Хотя, видит Бог, он не рвался в свидетели, а уж тем более в судьи. Просто он из того поколения, чьё детство, словно дрожащий неоперившийся птенец, было безжалостно выброшено войною из тепла родового гнезда в сиротство, в грязь, в трагедию обезумевшего мира, лежащего уже не только «во зле», но и в золе, в крови, в целом море «детских слезинок»… Вот почему поэзию Виктора Пахомова (и всего его поколения в целом) я назвал бы историей неокаменевшего русского сердца, страдающего и сострадающего, верящего и любящего, непорочно сохранённого в катастрофах и катаклизмах ХХ века.
Геннадий Красников
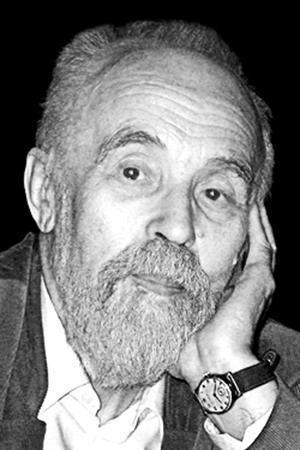
Николай Карпов
1932–2018
В Великую Отечественную оказался на оккупированной немцами территории и в 1943-м был угнан на работы в Германию. Малолетний узник фашизма.
1943
Доныне в памяти тот год –
Военной гари стойкий запах, –
Когда в неволю, словно скот,
Враги везли детей на запад.
При скудном, мизерном пайке
Едва держались души в теле.
Из них в далёком далеке
Людское вытравить хотели.
А следом, в ужас лагерей,
Ночным, осенним небосклоном
Летели души матерей
Над каждым страшным эшелоном.
Кругом военная страда
Светилась заревом багряным.
Вот лишь такие поезда
И не взрывали партизаны…
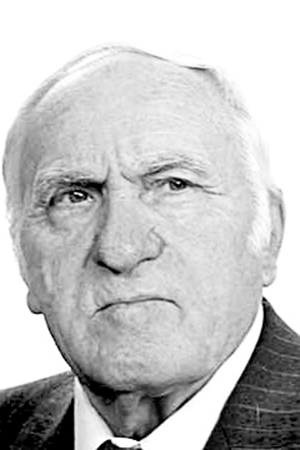
Виктор Пахомов
1933–2017
Сон
Дымятся трубы. Крематорий.
Освенцим. Я уже развеян.
Лечу на Родину, которой
Я и такой, сожжённый, верен.
Граница!
Родина. Смоленщина.
Ветряк. Речушка. Перевоз.
Седая сгорбленная женщина,
Полуослепшая от слёз.
Её морщины – словно шрамы.
Глаза с извечною мольбой.
Кричу, кричу ей: «Здравствуй, мама!
Я снова дома, я с тобой.
Вновь буду жить под отчей крышей
И никуда не пропадать…»
А мать меня совсем не слышит,
Меня не замечает мать.
Стоит, качается былинкой,
Концы платка прижав к плечу.
А я над нею пепелинкой
Летаю и кричу, кричу…

Игорь Шкляревский
1938
* * *
Ветер холодный дует с реки.
Мы собираем в полях колоски.
Голые ивы. Церковь без крыши.
Ангелы в небо летят со стены.
Плачут голодные птицы и мыши,
в поле далёкие горны слышны.
Я колоски, колоски собираю
и на соломе сырой засыпаю,
и высоко над холодной страной
ангел летит с пионерской трубой.

Юрий Кузнецов
1941–2003
Возвращение
Шёл отец, шёл отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым –
Ни могилы, ни боли.
Мама, мама, война не вернёт…
Не гляди на дорогу.
Столб крутящейся пыли идёт
Через поле к порогу.
Словно машет из пыли рука,
Светят очи живые.
Шевелятся открытки на дне сундука –
Фронтовые.
Всякий раз, когда мать его ждёт, –
Через поле и пашню
Столб клубящейся пыли бредёт,
Одинокий и страшный.

Юнна Мориц
1937
* * *
Мы?.. Гитлеру?.. Равны?.. Да он – родной ваш папа! Теперь вы влюблены В культурный слой гестапо. Теперь у вас в мозгу Такой завёлся счётчик, Что должен вам деньгу Убитый русский лётчик, И океан валют, Собрав по мелочишке, Убитые пришлют Вам русские мальчишки.
Мы Гитлеру равны?.. Да он – родной ваш папа! Теперь вы влюблены В культурный слой гестапо. И нам диктует рать Гестаповских талантов, Как надо презирать Российских дилетантов, Как надо умирать На гитлеровской бойне, Спасая вашу рать, Чтоб ей жилось ковбойней, – Как надо умирать На той войне великой, Спасая вашу рать С её к нам злобой дикой.
Мы Гитлеру равны?.. Да он – родной ваш папа! Теперь вы влюблены В культурный слой гестапо. И в следующий раз Мы спросим вас любезно: Как драться нам железно И умирать за вас, Чтоб было вам полезно?… А мне, мерзавке, жаль, Что гибли наши парни За бешеную шваль На русофобской псарне!

Геннадий Хомутов
1939
Самодельные чернила
Скорей, скорей, скорей оттаивайте,
Чернила наши самодельные.
И ничего вы не утаивайте
Про тыловые дни метельные,
Про наши беды неисчётные,
Про будни строгие и хмурые…
Скорей, оттаивайте, чёрные!
Оттаивайте, красно-бурые!
Из бузины и жирной сажи,
Из бурой свёклы и из глины!
И мы напишем, мы расскажем
Свои житейские былины!
И нам чернила намекали
(Так нам казалось каждый раз),
Как будто перья мы макали
В траншейную слепую грязь,
В огонь и дым больших пожаров
Той, фронтовой родной земли.
И строчки чёрные бежали,
И строчки красные текли.
А до победы долго топать
Солдатам нашим до Берлина…
В чернилах копоть, копоть, копоть,
Огонь и дым, и кровь, и глина…
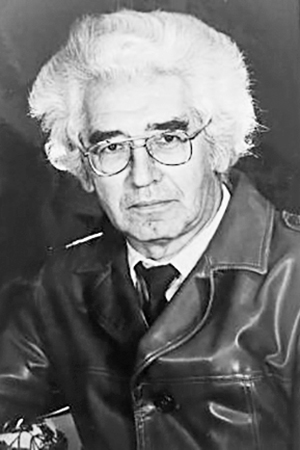
Александр Цирлинсон
1935
* * *
В который раз иду на «Два бойца».
В который раз в святое чудо верю,
Что вот сейчас, за этой самой дверью
Увижу на экране я отца.
Я каждый кадрик знаю назубок.
И всё-таки, сквозь шквал огня и стоны,
Отец кричит: «Держись! Живи, сынок!
Нас – два бойца! И рядом – миллионы…»
* * *
Я перед ним всегда робел.
Был молчалив сосед.
Я знаю – в танке он горел.
Огонь оставил след.
Он шёл – медали в два ряда
Позвякивали чуть.
И было страшно мне тогда
В лицо ему взглянуть.

