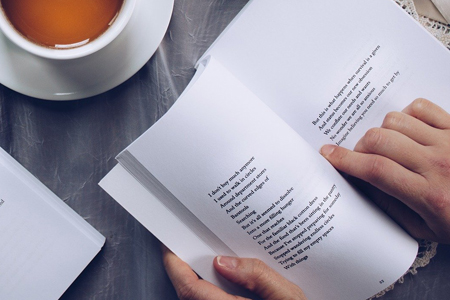Недавно сидел в гостях (прекрасный дом, три этажа, картины хозяина на стенах, картины его бывшей жены, камин, талантливые умные люди за столом – как же я затесался сюда?) и узнал удивительный факт.
Оказывается, закадровый смех в ситкомах – это смех уже мёртвых людей.
Его давно записали, он столько лет лежит в фонотеках – какой смысл записывать новый? Когда тебе про этот смех мёртвых людей рассказывают, по спине бежит холодок восторга.
То есть эти люди – не люди, пыль. Этот смех уже не смех – эхо.
Так это же про поэзию.
Ну надевала женщина с узким телом на левую руку перчатку с правой руки (или наоборот, какая разница – всё равно этот трюк не повторить, даже с варежками, куда уж там с перчатками, ну не шла же она со вздувшимся пузиком лайковой перчатки на ладони), но нам-то что? Теперь эта мёртвая перчатка-лягушка, этот призрак никогда не надетой перчатки всегда с нами.
И всё льет и льёт хозяйка из бутылки струю золотистого мёда, причём так долго, что можно проговорить целое сложноподчинённое предложение. Но почему мёд в бутылке? Это же неудобно. Он должен быть в банке или в кадушке. И вообще, почему она говорит такую странную фразу? Что за жеманство? Уж не сестра ли она той женщине с перепутанными перчатками? Но и это тоже уже неважно – тягучая струя мёда навсегда с нами.
Странные ломаные слова. Вывороченные мысли. Призрачные придуманные жизни.
И это самое большое чудо поэзии.
«Главное иметь нахальство знать, что это стихи», – когда-то написал Ян Сатуновский. Всё стихотворение – одна строчка. Почему-то не поставлено тире после слова «главное», но мне сейчас интересно другое. Я всегда повторял это стихотворение с ошибкой памяти. «Самое главное – иметь наглость знать, что это стихи». Дописал на одно слово, изменил «нахальство» на «наглость». Мой вариант мне нравится больше. «Г» звучит упоительно грубо, «наглость» короче «нахальства», как шлепок той же перчаткой по лицу, и в стихотворении уже не мелькает нахальный хохолок Хлестакова. Нет, в него вваливается, дыша духами и вином, вечная любовь моей жизни – Настасья Филипповна. (Кстати, кто-нибудь помнит, что она была Барашкова? Я вот до сорока лет не помнил. Но вот же он, агнец, жертвенная овечка, не отведённый Господом нож Авраама.) «Я сейчас брошу эти деньги в камин и посмотрю, как ты за моими деньгами в огонь и полезешь».
Это всё про стихи.
Они так и существуют: неуместные, резкие, неправильные, с неточно запомненной строчкой. Да что там строчка. Стихи – это смех или плач уже мёртвых людей. Но мы даже этого не замечаем.
…У Докинза есть отличная история про бобров. Однажды их запустили в необорудованную клетку без воды и древесины, где они стали впустую проигрывать все свои обычные движения, которые совершают в природе, где есть настоящие деревья и вода. «Они помещали воображаемое дерево в воображаемую стену плотины, трогательно пытаясь построить призрачную стену из призрачных веток, и всё это на твёрдом, сухом, плоском полу своей тюрьмы. Их можно было пожалеть: они как будто отчаянно старались использовать свой ненужный здесь механизм».
Нас не надо жалеть.
Эта воображаемая плотина – поэзия, этот закадровый смех или «у-у-у» мёртвых людей – стихи, эти грубые сумасшедшие бобры – мы.