, поэт, переводчик, лауреат Государственной премии, в беседе с нашим корреспондентом.
– Александр Михайлович, вы много переводили поэтов из национальных республик. С какими авторами было наиболее интересно работать?
– Ну, не только поэтов из национальных республик! Я много переводил французов, больше всего – Верлена, поляков, чехов, сербский и болгарский эпос, немцев – начиная с Гёте, украинцев, белорусов, литовцев, латышей. А из наших… Были талантливые ребята. Черкес Аскер Гадагатль, осетин Георгий Цагараев, мордвин Артур Маро, чуваш Яков Ухсай. И другие, конечно.
– Как вы оцениваете состояние переводческой школы в советское и в наше время?
– И тогда были хорошие переводчики, и сейчас есть. Но тогда перевод кормил! Сейчас этим занимаются только энтузиасты. В целом же уровень перевода, к сожалению, падает. Как и уровень поэзии.
– Как думаете, почему?
– В искусстве царит вседозволенность. А идеи нет. Нравственного стержня нет. Почему мы плачем, слушая Брамса? Красота… Этика и эстетика – одно в одном, они неразделимы в подлинном произведении искусства. Современные поэты не всегда понимают это.
– Что, на ваш взгляд, реально нужно делать, чтобы сохранить переводческую школу?
– Прежде всего материально поощрять тех энтузиастов, которые ещё остались. Кроме того, издательства должны изменить свою политику: не гнать поток низкокачественной массовой литературы, а обратиться к настоящим текстам, достойным быть напечатанными.
– Считается, что есть два основных метода перевода: дословная точность и передача духа произведения, смысла, а не слова. Какова ваша позиция?
– И то и другое! И так переводить возможно. Так перевёл Мицкевича Пушкин, так работают все настоящие переводчики. Перевод должен воздействовать на сознание с той же силой, что и подлинник. Вот что главное. Поэтому надо и соблюдать словесную точность, и передавать дух. Только тогда перед нами перевод, а не пересказ, переложение, которые способен сделать ремесленник. В моём эссе «Записки поэта» об этом довольно много размышлений. Но надо помнить и о том, что переводчик переводит не столько текст, сколько то, что за ним скрывается, то есть страну, время, атмосферу, коллизии, героев. И это всё нужно видеть и осязать. Попытаться психологически точно передать состояние автора и героя. Произведение и его перевод должны вызывать сопереживание, душевный отклик. Но важнее всего – духовное очищение, то, что Аристотель называл катарсисом.
– Вы знаете несколько языков и переводили чаще всего с оригиналов. В чём разница работы с подстрочником и работы с подлинником?
– Перевод с оригинала идёт на совершенно другом уровне. Знание подлинника даёт самое главное – чувство языка, звук. А звук в поэзии – это составляющая смысла. Попробуйте отнять у музыки звук! Что получится? Знание подлинника позволяет переводить, воссоздавая единственно возможную форму. Ведь были случаи, когда, переводя с подстрочника, делали непозволительные вещи. Например, Козловский и Гребнев зарифмовали Расула Гамзатова на русский лад. Но ведь у Гамзатова не было рифмы! Там совсем иная поэтика. Как же это не учитывать?
Прочитав подстрочник, невозможно пережить катарсис. Плачешь-то не по подстрочнику. Только по оригиналу. Кроме того, переводя с подлинника, чувствуешь, как мир автора вторгается в твой собственный, обогащая тебя и изменяя. Например, переводя итальянского поэта эпохи Возрождения Агриппу д’Обинье, я с удивлением обнаружил, что изменился мой почерк. Был острый, стал круглый. Изменился характер? Не только характер, весь мой внутренний мир изменился, повысилась эстетическая планка.
– Что вам дал перевод как поэту?
– Знание языков невероятно обогащает. Чувство чужого языка углубляет чувство своего, родного. И потом, переводя, можно многому научиться – и не только формальному, технике. Учиться можно духу и сознанию. Замечательный мастер и один из моих учителей Сергей Васильевич Шервинский однажды заметил, что влияние русских поэтов очень опасно – можно стать подражателем, а учиться у иноязычных безопасно, можно многое у них заимствовать безнаказанно. И как поэт я, безусловно, рос на переводах.
– А степень собственной литературной одарённости влияет на качество перевода?
– Только! Только подлинный поэт может стать хорошим переводчиком.
– Значит, переводчиком, как и поэтом, надо родиться?
– Конечно. С одним условием. Нужно очень много работать.
– Как вы понимаете чувство единого языка для народов России?
– Единый язык – это, разумеется, русский. Взаимопроникновение и обогащение культур возможно только через русский язык. Культурный диалог между республиками без него немыслим. Может быть, в конце концов именно общий язык сделает то, что пока не под силу ни политике, ни экономике, – объединит народы. И ваше приложение, кстати, – серьёзный шаг в этом направлении.
– Какой вопрос вы сами хотели бы себе задать? Что вас больше всего тревожит?
– Существование человечества. Мне очень надо, чтобы существовало человечество. Очень надо, чтобы меня услышали. Чтобы потом могли прочитать. Чтобы поэзия длилась.
Беседу вела

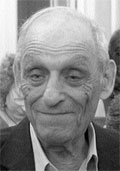 Александр РЕВИЧ
Александр РЕВИЧ