«ЛГ» представляет произведения финалистов четвёртого сезона литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов (2020). В номере – стихи Д. Безносова, А. Шалашовой и Б. Пейгина, проза С. Кубрина и Т. Шевченко. С творчеством других финалистов можно познакомиться на сайте «ЛГ».

Денис Безносов,
Москва
памятник
сплав непонятной изогнутой речи
законам неким подчинён но к сути
чтоб подобраться к многому приучен
должен быть разум ибо смысл иначе
не узреть тщетно поглощая строки
неверно между собой сопряжённы
форм непривычных в волокна вбирая
множество чтенью препятствуя либо
слов неудобных громоздя тугие
узлы где можно напрямик без лишней
хитрости было высказаться вместо
непроходимой внутри густой вязи
идей другое сообщить никчёмных
кряжистых чёрствых избежав метафор
в топь заводящих по горло где вовсе
не разобраться в чём дело не вызреть
мыслей воздвигнут на бумаге сгусток
текста отныне ему и быть гордым
нерукотворным строением или
ничтожной суммой случайных свидетельств
элегия
в чаще безглазых статуй ползает свет
ходят углы ходуном искажая облик
мы растворяемся возле меркнущих ламп
шёпота в рот набирая
в этих промозглых залах или в других
точно таких же никто не имеет после
ориентира он смотрит но ничего
больше не может видеть
шума веществ чураясь или в него
вслушиваясь где стекло измождённо морщит
кожу а комнаты глохнут мы говорим
скороговорками втуне
серая взвесь подённо зримая сны
сотканные из вещей начинённых криком
геометрически ровный бледный ландшафт
строго идут по порядку
куклоподобным оным здесь отведён
скромный кусок пустоты временной отрезок
несколько полых предметов стены и речь
для сообщения мыслей
метафора пчелы
чтобы застыть неподвижно в воздухе
пчеле необходимо изо всех сил
махать крылышками и тогда однажды
она застынет опровергнув существование
движения вероятность бегства из одной
точки в другую ибо лишённое вовсе
движения время более не следует
никуда не способное ни на что влиять
так пожалуй возможно не исчезнуть
метафора заката
ещё светло но в самое
ближайшее время закат
вдоль горизонта жёлтым
а после красным вытянув
конечности цветом сошьёт
землю с потухшим небом
скрепя по взлётной медленно
громоздкое тело ползёт
глухо сопит внезапно
раздувши ноздри фыркает
затем поднимается над
мокрым асфальтом с каждой
секундой выше к жёлтому
задравши глазницы бока
круглы на солнце грея
сначала видит рыжие
полоски заката внизу
вскоре пробив сплошные
слои густого воздуха
взмывает над рябью поверх
белого цвета видит
внизу уже свершившийся
закат начинающий здесь
только готовить краску

Александра Шалашова,
Самара
* * *
помни город, в котором родился
алёна михайловна при всём классе
говорит
ты смирнов дурак и не лечишься
так и стал дурак на десять лет после
словно приклеили и пришили
белыми нитками на синий пиджак
купленный в магазине школьник
как у всех но отличающийся
чем-то невыразимым
помни город, в котором
на углу победы и энергетиков
пацаны пинали собаку
она скалилась но
что-то сильнее боли
заставляло лаять кусаться
и рвать штанины
не убегать
помни город, в который
не вернёшься униженный
не пойдёшь занимать очередь
в центр занятости населения
к восьми тридцати
не будешь стоять за женщиной
в каштановом парике
перед мужчиной
со звёздами оспинок
по всему лбу
* * *
в «магните» чувствую запах привычный
тем кто ехал поездом выходил с курского
густо родинками облеплена кожа
у женщины что стоит впереди меня
наблюдаю картины неживой природы
росу на банках с томатной пастой
сквозь бутылку масла «золотая семечка»
всё видится жёлтым и безобразным
говяжья тушёнка с головой коровы
кукурузные палочки в цветном пакете
яблоки глостер со вкусом кармина
с запахом раздавленных насекомых
женщина по колено в проливе
между полок с фруктами и бакалеей
вросла в пол точно старое дерево
а как выберет как заметит
меня маленькую
считаю мелочь стою в очереди
за хлебом жду времени
когда ветви прорастут сквозь
белое тело
* * *
Требуется
жиловщик
обвальщик
формовщик
в мясной цех
в новый супермаркет
седьмой континент
работа рядом с домом
официальное трудоустройство
полный соцпакет
обращаться по телефонам
представила, как рядом с моим домом
режут и потрошат,
распиливают на части,
выкидывают кости,
моют руки в дезинфицирующих средствах.
А я не слышу ни криков, ни шёпота,
ни стонов убиенных, терзаемых ни за что, а только
здравствуйте наличные или карта
спасибо за вашу покупку
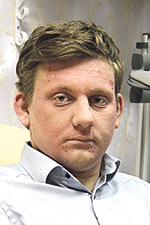
Борис Пейгин,
Томск
* * *
На Батенькова, под часами,
Ты видел, человечий сын,
Как эти самые часы
Уходят сами, сами, сами?
Как сам себя за хвост кусает
Кольцом трамвайным циферблат?
А вечер тучен и крылат,
А воздух так непроницаем,
Как пёс голодный, руки лижет,
А осень ближе, ближе, ближе…
* * *
За проволокой, гибкой, как ковыль,
Где ножницы оттачивала Парка,
Где стыла звёзд пороховая пыль
На шомполах ограды лесопарка –
Там, где-то там, я много лет лежал,
Пассатом, принайтованным к кровати,
И билась средостенная межа,
Отстукивая песнь о Гайавате,
И это был одиннадцатый час,
Бесчисленный одиннадцатый час.
Гидрографическая сеть двора молчит,
И проводное радио молчит –
Об остальном рассказывали в книгах.
Там, вдоль бульвара, пролегла дорога,
Которой люди, лучшие, чем я,
Ходили надлежаще и пристойно –
До муз, до слёз, до ветра и до школы –
И думали пристойно и умно.
И ты – как наилучшая из них –
Ты знала то, что подлежит любви,
И знала то, что надлежит любить,
Но обо мне не говорили в книгах.
Я книжек не любил и не читал –
Ни Богу свечка, ни тебе чета.
Но я не мог не следовать тебе,
Поскольку тишина необладанья
Едва ли тише всех колоколов
Далёкого парижского собора –
А ты всегда скрывалась в недрах зданий,
В подбрюшьях портиков, фронтонов, куполов.
Где я стоял – там проросли деревья,
В годичных кольцах осаждали стронций,
Шумели, точно дальние моря,
И я смотрел, как много лет подряд
Не у меня украденное Солнце
Шло над капеллой мёртвых голосов
Эклиптикой, как взлётной полосой,
И никогда не замедляло хода.
И всякий раз, как выходила ты,
Шла вдоль забора в городе заборов,
Любой мой шаг был шагом как на казнь
За совершенье мыслепреступлений.
Я выступал (в единственном числе) –
На снег апрельский, острый, стекловатый,
Как на врага, я нападал на след,
Да что ты знал об этом, Гайавата?
Но тропик Рака был сильней меня,
Любая широта сильней меня,
Любая широта была сильнее,
Я компас бил и карты изменял,
Но ты – всё дальше, небо – всё синее,
Я никогда тебя не догонял.
Я никогда не верил в колдовство,
Но книги на руках твоих сбывались.
И вот однажды к берегу крутому
Близ КПП, где угол Первомайской,
Пристал в своём каноэ старый Ягу,
И он тогда мне многое поведал:
О том, что лёгкий крейсер «Гермиона»
Утоп у берегов Мадагаскара,
Утоп за много, много миль до Трои –
Он вообще туда не собирался.
А я-то знал, что брешет старый Ягу,
Что этот чёртов злополучный крейсер
Загинул где-то под Александрией.
Но всё же он не доходил до Трои,
И я решил отправиться туда,
Поскольку в кормчих книгах кораблям
Быть не могло предсказано иное.
Дальнейшее, как водится, молчанье –
Как выходил один я на дорогу,
Которой раньше проходила ты,
И долго-долго уходил на запад,
Где смотрит сны отец мой Мэджикивис.

Влад Гагин,
Санкт-Петербург
* * *
Целый день переписывались, слякоть на улицах.
Хотя за несколько дней до этого выпал снег.
Ты думала о самоубийстве, я даже
решил снять изображение Аронзона со стены.
И вместо него прицепить фотографию Дуга Рикарда,
распечатанную ранее, разрезанную по ошибке
на четыре равные части. И всё же
этот образ остается для меня важным.
Целый день переписывались, вспоминали
выпавший снег, путешествие по хорошим
лакунам внутри тела памяти. Я
не спал всю ночь, как бы шатаясь
от стены к стене, от ссылки к ссылке, так что
то утро, когда выпал снег, обернулось
неожиданной радостью, отменившей
мысли о самоубийстве, я даже
написал тебе: «я поэт!». Однако стоит вернуться
в день переписки, серого неба.
Ночью, когда ты поблагодарила
меня за внимание, оказалось,
кто-то третий присутствовал между реплик.
Сколько времени? Что он хотел сказать — разоблачая
себя самого — этими гифками? Ведь он их отправил
в ту секунду, когда мы оба почувствовали, что нужна пауза в разговоре.
Анархизм против сохранения территорий.
Безусловное гостеприимство разворачивается паразитизмом.
Что-то сломалось тогда. Но я до сих пор пытаюсь представить,
сколько еще скрытых данных хранят архивы
безобидных решений; самые мрачные
мысли посещают меня, и они похожи
на то, что иранский философ мог бы
назвать, что ли, ксеноагентом,
разрывающим прочные сцепки любого внутреннего сюжета.
Как бы там ни было, я верю в Тристеро,
толком даже не помня, что это такое.
Выпавший снег отмечает время
автономной зоны, и это странным
образом сочетается с тем моментом,
когда я заснул, наконец, в помещении без окон.
То же самое снится.
Но уже без надрыва, без четкой цели.
Без мыслей о сорванной родинке, без паранойи,
без желания стать счастливей.
* * *
Лене Ф.
когда выветриваются последние серии страха
когда «паразитарные отношения абсолютно
со всеми вокруг» или
«семь минут спортивной ходьбы», когда
куришь на выходе отдельно от всей тусовки
и два Джона о чем-то беседуют за стеклом
может быть, мысль проскочит
может быть, Пушкин неправ
был, говоря о невозможности счастья и представляя
реальность через схемы единства —
даже в сшивающих капиталистических джунглях речи
виден след идеальной игры
несколько персонажей играют в американский
футбол в минуту предпоследнего снегопада

Дмитрий Ларионов,
Нижний Новгород
* * *
<…> вот загадаю, будет заново:
шашлык, библейское вино
и электричка — в Балабаново.
Иного, друг мой, не дано.
Кивнут своим цветочки разные,
в три клика плеер даст ЮЮ:
посеребрит «Метелью августа»
живую грусть, печаль твою.
Украдкой вздрогнут гладиолусы,
тебе и мне — табачный дым —
вспорхнет /от голоса до голоса/
туда, где свет неразличим.
Но там, я знаю, делать нечего.
Лишь тьма и вакуум вокруг
слезой уходят в бесконечное.
И вакуум. Застрочный звук.
Мир позже сузится до буковок.
Пусть ледяные мотыльки
из VKO летят на «Пулково»
чужой разлуке вопреки.
Мы их увидим в небе заново,
а остальное… как сейчас:
веранда, песни, Балабаново.
Сойдет зима — и я у вас.
1998
Слезой иного океана пришла Господняя слеза —
и одуванчиковый ангел сырую соль с губы слизал.
Не упадет на донце глаза свод занимательных вещей:
всю темноту вернули сразу, такой и не было вообще.
Приехал, снова потерялся. Среди гранита и цветов
ни дыма нет, ни ассонанса, ни музыки. Нет ничего,
что мне едва напоминало о многом, дальнем, дорогом…
«Из этих туч свари какао», — просила Лену. Угольком,
когда жила в соседнем доме /почти мерцание вблизи/,
чертила: девять, девять, восемь. У Кочубея ржавый ЗИЛ —
стоял напротив — близ барака. Потом словечки о любви.
Ты умирала в Кулебаках. И одуванчики цвели.
* * *
Себе на жизнь друг майнил в Осло.
Его мечтой был Амстердам.
А я в четверг смотрел на солнце;
кипела в чайнике вода.
Стоял апрель. Провисшим небом
/и запах комнаты пустой,
где многим позже будет мебель/
летели птицы над страной.
Квартира этажа восьмого.
<…> сегодня — голоса других —
пережимают голос новый.
Последний камешек фольги
оплавлен был в кофейной банке.
Ты уезжала на такси,
забыв у зеркала свой «Данхилл»
и зажигалку вместе с ним.
Недолог дым; предвечна сырость.
Но я шептал через губу:
«Пусть мне однажды жизнь приснилась,
приснись еще когда-нибудь».

Мария Малиновская,
Москва
Время собственное
Отрывки из цикла
Цикл посвящён событиям гражданской войны в Кот д’Ивуаре. В основу положена речь очевидца.
* * *
документальное искусство это подлость
я не хочу никакого документального искусства
когда прилетел вертолёт и забрал нас с крыши
нашего дома
мы даже не смогли взять обувь
мои дети стояли в аэропорту босыми
и подошёл какой-то ублюдок
современный фотограф
и начал их снимать
жена спросила меня что он делает
это причинило ей боль
я подошёл и спросил что ты делаешь гад?
зачем ты снимаешь моих детей босыми?
он ответил это важно
показывать страдания
чтобы мир знал и бла-бла-бла
я сказал хорошо ублюдок
я не хочу чтобы ты показывал мои страдания
как он занервничал этот фотограф
стал мне объяснять
что это документальное искусство
я говорю ему я потерял всё
мой дом подожгли повстанцы
у нас с собой нет даже паспортов
и это ты называешь искусством?
удали всё что снял
и больше не приближайся
я не показываю когда страдаю
это просто самоуважение
и тем более не потерплю
чтобы это показывали другие
мы поехали на север
в родную деревню матери
нашли там соседа который помнил меня
в паспортном столе меня спросили
клянёшься что тебя так зовут?
мать спросили клянёшься что это твой сын?
соседа спросили ты подтверждаешь это?
тогда распишитесь здесь
и так мне выдали паспорт
с тех пор я по-настоящему полюбил свою страну
но получив паспорт
я сразу полетел обратно
потому что надо было зарабатывать
а не осмысливать травму или что там ещё это жизнь
и ничего в ней особого
* * *
если я пришлю тебе фотографии
моей виллы после разграбления
обещаешь что никому не покажешь
и сразу удалишь?
это пару недель спустя когда мои люди
наконец смогли пройти в район
всё было разрушено вообрази
куча людей ломится в дом
а ты внутри единственный мужчина
с женой и двумя детьми
видишь разнесли дверь
моим же топором и молотками
а вот бассейн куда я часто прыгал с крыши
чтобы рассмешить детей
если бы это было сейчас
двое мужчин а не мальчики
всё обернулось бы иначе
нас бы убили
первая часть повстанцев это студенты
они даже надели футболки
студенческой федерации
чтобы узнавать друг друга
вторая часть просто нищие ублюдки
которые хотели украсть всё что могли
они пытались прорваться в дом
час или два
я был в осином гнезде
ждал помощи делал звонки
и в последний момент прощальный поцелуй
жене и детям
они прятались в маленькой ванной комнате
в той где у нас была ванна
именно в ванне можно укрыться от пуль
в случае стрельбы
а я стоял у двери с боди-баром для фитнеса
разобрал три ружья
пуль было много но не хватило бы духу
стрелять в такую толпу
до сих пор ненавижу себя за это
экзистенциальный вопрос тех часов
стрелять или не стрелять
мы были готовы к эвакуации
сложили в одну сумку паспорт ювелирку деньги
чтобы не мешкать когда прилетит вертолёт
первый который вошёл
ударил меня крича мани мани
это был не студент
я отдал ему сумку без разговоров
на меня навалились мани мани мани
я сказал деньги в сумке надеюсь достаточно
их становилось всё больше лезли с крыши
это знаешь когда они находят путь
они наводняют дом
но когда первый парень взял сумку
некоторых уже заботило только кто это был
а потом студенты повели меня по коридору
мимо семьи
на крышу
потребовали давай звони
туда куда можешь кинуться
родителям брату жены
звони говори что приедешь
и веди нас туда
нет я не приведу вас к моей семье
нет никогда
они пытались меня заставить
и вот тогда один стал целиться из ружья
я начал говорить я это заработал
вы разрушили мой дом взяли мои деньги
но скоро опять будете побираться
потому что не умеете работать
а они заладили
ты проклятый француз на нашей земле
и тут я нашёлся я не совсем француз
у меня бабушка полька
один из них который не хотел неприятностей
стал шептать остальным
ребята ошибка он не француз он поляк
я возмутился я француз вы не поняли
какой я вам ещё поляк?!
но этот парень подошёл ко мне вплотную
и сказал заткнись придурок
хочешь жить значит ты поляк
они перекинули лестницу
между нашей крышей и стеной соседа
недалеко метра три
и один за другим
мы перешли на ту сторону
жена
младший сын
старший сын
я
а потом подоспел вертолёт

Юлия Дрейзис,
Москва
* * *
чувствовать маленький жёсткий шар головы
буравящий подмышку
в момент (преходящей) истерики
ибо только агония вечна
как разряженный гаджет
луна
влажным глазом
сквозь облака
позднеминского свитка
с его ветвящейся обречённостью времени
вот оно есть
и вот уже степные кони
распускаются большими мятыми квадратами
как неотвеченные имейлы
на долю секунды
взрываются сивыми точками
безнадёжного одиночества
пополняя бестиарий
двадцать первого века
чёрный волчок
смоляной бочок
картинки как карточки
с пиктограммами
каркающими словами
неизвестно когда
забывшего свой язык
народца
клац-клац
кровинушка
клац-клац
родимая
из подгорнего мира
кряжистым корнем
лезет буквица
топлёным варом
лезет волчица
не трожь
моё кровное
неотчуждаемое имущество
кармическое воздаяние
нейролингвистическое междуцарствие
кар-кар
сердешная
кар-кар
залётная
протуберанцы афазии
по твоему полю без пахаря
по венцу стоигольному
по картону шуршавому
с последними печатками
чёрными
алыми
бесовскими
чистыми
совершенными следами
несбывшегося нашего мира
* * *
как говорить не касаясь
не слоить
не сшелушивать лыко
за́болонь мира
ирги перезрелое семя
отпрыски стылые
на бесснежной земле беспризорные
твёрдые голые
клёнов последние крылышки
по-херувимски надбитые
жирными жестами
времени

Мария Гладцинова,
Вологда
* * *
не зубы режутся — осока
сухое тиканье часов
шатание éлей высоких
над головой
гудит сквозь сон
шаманское камлание шмéля
шуршащих капель тёплый шёпот
бесшумно падает в песок
и едва слышим тёмный стрёкот
каких-то тайных голосов
там | самому себе не веря
от солнца отвернув лицо
под пение клевера и хмéля
и птицы хохот восковой
усни | качаясь в колыбели
травы | застенчивой лесной
волнению её поверив
секретный сон
вернись домой
в гнездо
невидимое зверю
не пророни ни капли звука
с грибом срастись
и дёрном стань
быть человеком
ужас мука
зачем ты это
перестань
* * *
уже стемнело за окном
дар января | голубоокий
и на советском | ватным блоком
глухая мгла | опять легла
глубоким | сном
на обезглавленную церковь
но в млечном свете | голубом
идущем сверху | поволокой
и свечном свете фонаря
сверкает снег | осоловело
как будто | в яви января
смертельно белой
в вязком сне
есть только снег
и нет
тебя
* * *
отречённый от мира сего
обречённо гудит колокольчик
пролетая над чёрной землёй
в меднозвучной своей оболочке
в колокольне белее снегов
гулкой ночью безлунной
слышен тут
только голос его одиночный
гул чугунный
и достигнув предельной точки
отчуждённости и покоя
окунувшийся в голубое
он, наверно, не чувствует боли
ничего не тревожит его
но разбуженный громом прибоя
в нервном всполохе молний и волн
он дрожит и поёт над землёй
не боясь, что умрёт от побоев —
ведь тогда тишиною накроет
точно тучей и тьмой
этот город, похожий на грот
но пока колокольчик поёт
и слова от набатного боя
вспенив облако дождевое
набухают как почки
и сырые от горечи строчки
высыхая, ложатся в тетрадь
чтобы спать в одеяле из ночи
беспробудно до времени спать
* * *
моржи не плачут
т. к. слёзы
примёрзнут к их усам
и я не плачу
т. к. взрослый
большой
я сам
Галина Рымбу,
Львов
* * *
В засвеченной темноте рыхлые телескопы горят,
бродит чёрное пиво в старой броварне.
В темноте народов идём, прерываясь, и всегда она – темнота:
Галиция.
Подземное горькое пиво в пластмассовых чашах кипит,
люди жмутся друг к другу в разрушенном транспорте.
Странно светится по ночам заводской бар,
и они входят в него, как в храм, это тени ранних людей –
Галиция.
Вот человек ещё перебирает хмель пыльными пальцами,
головой бьётся о земляные стены – дай путь!
Животы холмов разрезает электротрамвай, и Тракль
снова вышел гулять с Маргаритой
в облаке красном Галиции.
На жаровнях скрипит старое мясо, многие флаги кругом.
Куда идём в Галиции? Почему так сладок язык,
горьким пивом облитый, и движение на край ночи?
Вперёд мира дышит Галиция.
Лёгких панелек пасхальный гул на окраинах, и песня,
прорывающая внезапно стену происходящего. Мария розовая стоит на холме,
в зелёном ручье, и новой ночью
женщины осторожно лежат, как
Галиция. Они не решат всего, не решат за тебя,
куда змейки домов движутся в тёмном огне.
Ткачи
Они ткут целый день,
ткут и ткут снова 14 век,
ткань льётся вниз, словно сель времени:
грязно-дымчатое государство.
Он бьёт по ткани рукой, выбивая круги,
бьёт по ткани рукой – получается флаг,
и так, что значение флага говорит одно:
по мне
били
рукой.
Он бьёт рукой по животу на смутном празднике
как будто бы на собственном юбилее,
куда пришли все родственники:
заводчане стоят, закрыв глаза, и дочь
несёт к столу хрусталь, полный кислых солений, мокрых кубиков,
чуть подпорченной рыбы, воды.
В какой-то момент
он говорит
как будто бы тост:
«чтобы быть живым, я должен теперь взять имя мёртвого».
Они ткут целый день и ночь в пустом цеху, освящённом
синим сиянием баннеров, перебежками красных иероглифов на окне,
ткут блестящую ткань без значения, которую мы носим здесь, из которой сделаем флаг,
он говорит одно: то, что был сделан без участия мыслей и рук.
Мощные вязкие ткани плывут из другого мира в объезд горячих точек, –
рулоны войны, также полные форм, существ, насекомых; и пятна.
Универсальное тело на берегу их встречает, чтобы одеть, завернуться, укрыть,
стать нацией ворса, джинсы, острых катышек.
Алый скидочный ковролин уже выстелил здесь новый мир, другое внутри.
Друзья «понаехали», вошли в наш дом и легли на пол, обнялись во сне, вздрагивая.
Что им снится? Стрельба, девушки в джинсах-дудочках,
вплывающие в раскрытый тёмный гараж, или свет на рыночном дне,
лучом разбивающий дыни.

Евгения Ульянкина,
Москва
* * *
облако без окон без дверей
медленный убыточный огонь
сном наружу липкие глаза
сядем и похлопаем пилоту
ты чего не дышишь дорогой
маешься чего-то
у твоей берёзы лёгкая слеза
у твоей осины шапка набекрень
твой терновник вот он
* * *
говори но только коротко
будто слово это облако
камень дерево дыхание
нерасходный материал
или грамота охранная
кто такое в клюве ворона
мясо розовое поровну
безутешным матерям
вот пришли сырые бо́сые
ляжем в землю как попросите
если примет нас земля
* * *
какой тебе ещё защиты
барбоса в будке
зайца в утке
скорлупку-сейф как у лещины
горшок растрескался в печи
о сколько сил в одной песчинке
от нервной музыки огня
поют сверчки и морячки
они спасут меня
* * *
Не смотрит сны, а слушает: зима
(которая — белила и сурьма,
крупа, вода и папоротник бледный)
идёт наощупь то ли по земле,
то ли по небу; звук один и тот же:
скрип и дыханье напряжённых рам.
Сон дожидается утра,
и кожа
оказывается нехороша:
не бережёт, и ест его с ножа,
и режется, и просыпаться нечем.
Куда девались все твои овечки,
бессонная душа
