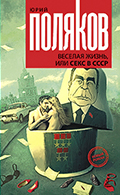
Так довольно задиристо называется новый роман Юрия Полякова. События разворачиваются осенью 1983 года, при Андропове, и писатель тщательно воссоздаёт реалии той, ныне забытой жизни. В известной степени это ретророман, а его автора можно назвать «ретроманом». Сюжет, как всегда у Полякова, острый, с неожиданными поворотами, где переплелись большая политика «застоя», интриги литературного мира, семейные конфликты и любовные приключения главного героя, носящего фамилию Полуяков. Прототипы многих персонажей легко угадываются. В сокращении «Весёлая жизнь…» выходит в трёх весенних номерах журнала «Москва», а полностью увидит свет в издательстве АСТ в апреле. Тогда же состоятся встречи автора с читателями: 9 апреля в 18.00 в магазине «Молодая гвардия» на Полянке, 10 апреля в 19.00 в Московском доме книги на Новом Арбате, 17 апреля в 18.00 в «Библио-Глобусе».
Предлагаем читателям «ЛГ» фрагмент нового романа.
Кролики и бобры
…А вот ещё история. Однажды я забежал в ЦДЛ – выпить рюмку и купить варёных раков. Они появлялись в буфете поздней осенью, а потом исчезали из продажи на год. Уходя, я наткнулся в холле на Вовку Шлионского. Он с трудом удерживал на ногах кренившегося Влада Золотуева, надравшегося после заседания партбюро. Это было незадолго до его антисемитской выходки, и чёрные тучи опалы уже теснились над ним. Вовка обрадовался и попросил меня пять минут подержать падучее тело, пока он сбегает на дорожку вниз. Я был тогда доверчив, как домашний кролик, не верящий в мясное рагу, и согласился. После получасового ожидания со спящим Владом в обнимку я, наконец, понял: меня подставили.
– Ты кто? – Очнувшись, спросил Золотуев.
– Егор.
– Какой ещё Егор?
– Полуяков.
– О, Жора, как всё смердит! Домой…
– Поехали.
– Пальто!
– Разумеется.
Я подтащил его к гардеробу. Влад, будучи общественником, постоянно посещавшим ЦДЛ, раздевался без номерка. Для таких, как он, сбоку, на стене, имелась специальная вешалка. Золотуев обвёл сизым взглядом тесно сбившиеся ряды верхней одежды и ткнул пальцем:
– Это…
Козловский скорбно проследил направление неухоженного ногтя, с трудом извлёк из спрессованного строя затребованное пальто и помог пьяному поэту найти рукава.
– Шарфик и шапочку не забудьте! – старик сдул невидимую пылинку с искрящегося меха.
– Угу, – Влад нахлобучил головной убор, наехавший ему на брови.
Я тогда ещё подумал: возглавив партбюро, Золотуев стал одеваться гораздо лучше прежнего, во всяком случае, такого пальто, явно империалистического производства, раньше у него не наблюдалось, не говоря о новой ондатровой шапке. Влад махнул мне рукой, мол, расплатись. Я дал двадцать копеек.
– Покорно благодарю-с! – по-старорежимному поклонился Козловский и бросил монету в жестяную коробочку из-под леденцов.
Редакционная машина в тот день на линию снова не вышла, Гарик опять ремонтировался, и мы, вывалившись на улицу, двинулись к стоянке такси – на угол улицы Герцена и площади Восстания. Со стороны я, наверное, напоминал молодого бойца, выносящего с поля боя раненого офицера.
– Куда? – спросил водитель строгим голосом, точно пассажиры постоянно звали его в пампасы или костромские леса, где сгинул Сусанин с польскими интервентами.
– В Останкино, – объявил я, зная примерно, где живёт Золотуев.
Шеф щелчком повернул вентиль «таксометра», и денежки потекли.
Когда останкинский шпиль, видный из самых отдалённых районов столицы, превратился в необъятный бетонный комель, я растолкал Влада и уточнил:
– Какая у тебя улица?
– Дубовая. А зачем тебе это?
– Я должен сдать тебя жене под расписку.
– Не примет.
– Почему?
– Ривка знает про Лариску. Лучше к тебе!
– Так куда едем-то? – зловеще спросил таксист и предупредил: – Облюете салон, пожалеете!
Мы уже мчались мимо основания башни, похожего вблизи на античный цирк с арками.
– Ладно, давайте в Орехово-Борисово, – решился я.
– Нет. Я из этой дыры потом порожняком не поеду.
– Сколько?
– Два счётчика.
– Договорились.
Мы развернулись и через час были возле моего дома. Я растолкал Золотуева:
– Влад, у тебя деньги есть? Мне не хватает…
– Я пустой.
– Ну, будем расплачиваться или как? – ласково поинтересовался таксист, шаря под сидением монтировку.
– Я сейчас поднимусь за деньгами.
– Тогда он останется здесь. И без шуток!
Нина с Алёной гостили у тёщи, но на кухне под хлебницей всегда лежали рублей двадцать на всякий случай. На них-то и был мой расчёт. Поднимаясь в лифте, я вспотел от страшной мысли: вдруг жена потратила деньги? Слава богу, семейный «НЗ» оказался на месте, и вскоре я с трудом втащил Золотуева в квартиру.
– У тебя есть выпить? – оглядевшись, спросил он.
– Посмотрю.
В серванте я отыскал пыльную бутылку с остатками шартреза, который лет пять назад купил из любопытства и никак не мог прикончить: даже с похмелья ликёр не оживлял, а, наоборот, приторно склеивал фибры страдающего организма. Но Влад одним махом поглотил «неликвид», цветом напоминавший зелёный антифриз, и упал замертво на диван. Я укрыл его леопардовым пледом, купленным в ГДР на дембельскую заначку, и пошёл спать во вторую комнату.
Мне приснилось, у нас в мусоропроводе поселилось всеядное существо, наполняющее хрумканьем и чавканьем весь дом. Созвали по этому поводу экстренное собрание кооператива, но председатель объяснил: тварь занесена в Красную книгу, и травить её нельзя. Проснулся я от странных звуков: «Уа-уа-уа!», открыл глаза: между шторами серело зябкое предзимнее утро. События вчерашнего вечера я, как говорится, заспал и очень удивился, с какой стати моя вполне уже взрослая дочь издаёт давно пройденный младенческий писк.
– У-а, у-а! – звал тонкий жалобный голосок.
Вспомнив всё и сразу, я метнулся в гостиную. На диване, свесившись к полу, лежал Золотуев и стонал, моля о помощи:
– А-а, а-а..у-у…
– Ты что?
– Плохо. Сердце останавливается. Выпить есть?
– Нет.
– Тогда я умру…
– Подожди!
Залпом опустошив бутылку пива, Влад отдышался, посвежел и попросил:
– Давай доедим раков!
– Что-о!
– Ночью так солёненького захотелось, ну, я и взял в холодильнике первое попавшееся.
Странно, что попались ему именно раки, которыми я собирался побаловать Нину, а не щи в кастрюле или котлеты на сковородке. На кухонном столе в куче красной хитиновой шелухи я нашёл двух целых раков. Это называется – попробовал! Но теперь, по крайней мере, стал понятен мой странный сон: сквозь дрёму я, выходит, слышал треск разгрызаемых панцирей и клешней.
Золотуев, экономно обсасывая членистоногих, допил вторую бутылку и попросил закурить. Мои сигареты кончились ещё вечера. На всякий случай пошарив в кармане его пальто, я обнаружил там пачку «Винстона» и мятые купюры разного достоинства, вплоть до аметистовой четвертной. А говорил, жмот, нет денег!
– Ты «Винстон» куришь? – удивился он, уважительно извлекая сигарету из пачки. – В «Берёзке» взял?
– Нет, у тебя в кармане.
– У меня? Я курю «Шипку». Странно. Принеси-ка шкуру!
Я притащил из прихожей и расправил на свету его пальто, тёмно-серое, из хорошей шерсти, с рукавами-реглан, на подкладке красовался лейбл: «Made in Finland».
– Это не моё! – предынфарктно удивился Золотуев.
– А это – тоже не твоё? – я вытряхнул из рукава мохеровый зелёно-бордовый шарф с голландским петушком на золотой этикетке.
– Тоже не мой. Господи! – он страшно побледнел. – А шапка? Быстрей!
Я принёс: отличная тёмно-коричневая шапка, кажется, из ондатры, с едва залоснившейся стёганой подкладкой и белым клеймом «Можайская меховая фабрика».
– Отечественная, – удивился я. – Умеем же, когда захотим. Твоя?
– Моя! – уверенно подтвердил Золотуев.
– А чьи же шарф и пальто?
– Не знаю. Не помню. Где ты их взял?
– Не я, а ты. Ты показал, а Козловский подал. Забыл?
– Значит, моё пальто надел кто-то другой…
– Ты, Владик, большой мыслитель! У тебя в карманах было что-нибудь такое, по чему тебя можно вычислить?
– Медицинская справка.
– Не из венерического диспансера, надеюсь?
– Нет, к проктологу. Направление.
– Тогда звони домой – тебя уже ищут.
– Жор, спроси лучше ты. У меня сердце не выдержит, – он с третьего раза дрожащим перстом набрал домашний номер и боязливо протянул мне трубку.
Сначала шли длинные гудки. Наконец, женский голос, холодный и колкий, как сосулька, ответил:
– Алло.
– Ривочка, извините, что так рано…
– Кто это?
– Жора Полуяков.
– Ясно. Позови этого урода!
Влад слушал, бледнея так, словно врачи-вредители стремительно заменяли кровь в его венах меловым раствором.
– Жора, я погиб. Бумагу и карандаш, скорее! – прохрипел он.
Я принёс. Золотуев агонизирующей рукой нацарапал несколько цифр – чей-то номер телефона – и выронил трубку. Из крошечных отверстий наушника доносился маленький, далёкий, но пронзительный женский голос, ругавший бедного Влада такими словами, после которых невозможен даже совместный проезд в метро, не говоря уж о дальнейшем брачном общежитии.
– Ну? – спросил я, кладя ругающуюся трубку на рычажки.
– Это пальто Клинского. Он приезжал на день рождения к Переслегину.
– Ого!
– Да, я как-то пил с Переслегиным. Это очень опасно.
– Направление, говоришь, к проктологу? – ухмыльнулся я. – Очень кстати! А когда звонили от Клинского?
– Полчаса назад. Он ждёт. Это конец!
– Набирай номер!
– Сейчас. Погоди! Надо ещё выпить! – прошептал Влад и закрыл лицо руками. – Умираю…
Его можно было понять: секретарь партбюро поэтов берёт пальто заведующего отделом культуры горкома партии и уходит, не заметив подмены. Объяснить это творческой рассеянностью невозможно: украл или надрался. Но и Клинский спохватился лишь утром, видно, крепко погуляв на дне рождения Переслегина, о запоях которого ходили легенды. Однажды на грандиозном поэтическом вечере в Софии, после ночи, насыщенной стихами и коньяком «Плиска», он потерял равновесие и рухнул на четвереньки возле микрофона, уткнувшись лицом в сцену. Набитый зрителями зал театра ахнул. Но поэт встал, расправился и отчётливо произнёс: «Я в грудь тебя целую, святая болгарская земля!» Местный партийный лидер Тодор Живков, почтивший мероприятие присутствием, прослезился и наградил поэта орденом «Кирилла и Мефодия».
Я сбегал за водкой в «Белград». Винный отдел там, как и во всей Советской стране, открывался в 11.00, но заплатив вдвое интеллигентной старушке, я взял четвертинку «Пшеничной», а на закуску, причём бесплатно, она выдала мне домашний пирожок с капустой – ещё тёплый. Я съел его на обратном пути. В одряхлевшем чреве социализма вызревал новый строй – жадный, хваткий, оборотистый…
Влад сидел в той же позе, одной рукой держась за сердце, другой закрыв лицо. Я налил ему стакан и выдал холодную котлету с солёным огурцом. Он безмолвно выпил, безжизненно зажевал, а потом дрожащим пальцем набрал номер, нацарапанный на бумажке. У несчастного секретаря партбюро поэтов было лицо сапёра-двоечника, приступившего к разминированию.
– Алло, приёмная?.. Это… это Золотуев Владислав Александрович… Да, конечно, подожду…
– Ну? – взглядом спросил я.
– Сейчас соединят. Т-с-с! Василий Константинович, это Золотуев… простите, я, знаете, вчера после бюро так торопился домой, что по ошибке… Мне страшно неловко…
Далее он только слушал, кивая, розовея и даже через силу улыбаясь.
– Понял! Буду! Спасибо! – Влад осторожно положил трубку на рычажки и, ликуя, повернулся ко мне. – Какой человек! Сказал, мы с вами, кажется, вчера оба очень торопились…
– Если он пил с Переслегиным, это вполне возможно.
– Какой человек! Мягкий, интеллигентный. В час мы встречаемся на «Площади Ногина». В метро. Он спустится. Господи, есть же настоящие люди! – На радостях Влад допил четвертинку и с аппетитом доел котлету с огурцом. – От меня не очень пахнет?
– Раками воняет! – мстительно ответил я.
– Давай одеколон!
Изнывая, я принёс едва начатый французский флакон, подаренный мне женой к 23 февраля. Дефицитным одеколоном я пшикался экономно, но злодей Золотуев опрыскивался так долго, словно распылял дуст. В завершение он пустил длинную струю себе в рот и дыхнул на меня:
– Нормально?
– Более чем! – чуть не плача, отозвался я.
…Без десяти час мы стояли в метро на платформе «Площади Ногина», почти пустынной в это время дня. Через равные промежутки времени из тьмы тоннеля, ревя, вылетали голубые составы, со скрежетом останавливались и выпускали на платформу немногочисленных пассажиров, в основном столичных гостей, которые спешили наверх, в ГУМ, «Детский мир» и к достопримечательностям Красной площади. Перрон снова пустел. Только сельская бабушка в оренбургском платке и плисовом жакете скиталась туда-сюда, перекладывая с плеча на плечо тяжёлый мешок. Заблудилась…
Вдоль перрона ходила дежурная в чёрной шинельке и красной шапочке. Она помахивала маленьким семафором, напоминающим круглое зеркало на длинной ручке, и подозрительно посматривала в нашу сторону. После взрыва в метро все стали гораздо бдительнее. Но мы, хоть и таились за колонной, выглядели вполне респектабельно: Влад в дорогом финском пальто из распределителя и ондатровой шапке. На мне тоже была хорошая импортная финская куртка на меху, её добыла жена, целый день отстояв в ГУМе.
– От меня водкой не пахнет? – снова спросил мнительный Золотуев.
– От тебя пахнет моим одеколоном, – с горечью успокоил я.
Мы ждали, неотрывно глядя на широкую лестницу, по которой должен был сойти к нам на платформу небожитель Клинский. Но он не появлялся. Наверное, какое-нибудь совещание затянулось. Мы ещё раз осмотрели перрон: никого, кроме той же бабули, беседовавшей с бомжеватым хмырём в обвислом пегом пальто и кроличьей бесформенной шапке. Старушка, видно, выспрашивала, как попасть на вокзал. Однако мне бросилась в глаза одна странность: ботинки бомжа, чёрные, остроносые, на тонкой подошве, сияли непорочным глянцем. Такую обувь носит тот, кто перемещается в пространстве на машине, – от порога до порога.
– Смотри! – я толкнул друга в бок. – Это же Клинский!
– Где? Нет. Хмырь какой-то…
– А ботинки?
– Не похож, хотя… – заколебался Золотуев, несколько раз видевший партийного босса на совещаниях.
– Пальто на нём твоё?
– Моё.
– А шапка?
– Не моя…
– Иди! Потом разберёшься.
Дальше всё случилось, как в шпионском фильме. На пустой платформе сближались два человека: импозантный мужчина и бомжеватый субъект. Они сошлись на середине, обменялись рукопожатиями, затем шапками, потом шарфами и, наконец, пальто. На глазах изумлённой дежурной бродяга превратился в солидного, номенклатурного гражданина, а импозантный Влад в полубомжа. Преобразившись, они ещё раз пожали друг другу руки, и Клинский державным шагом двинулся в верха, а Золотуев вернулся ко мне:
– Какой человек! Даже не упрекнул! – его лицо светилось счастьем.
– Владик, – сквозь хохот спросил я. – Как же ты шапку свою не узнал?
– А чем тебе не нравится моя шапка? – он снял с головы замызганного кролика и любовно погладил. – Нормальная шапка, не хуже, чем у него…
– Кролики идут – бобры стоят… – заржал я, сползая вниз по колонне.
– Какие бобры? – обиделся поэт.
– С армянского радио…
– Молодые люди, может, вам наряд вызвать? – сурово поинтересовалась дежурная.
– Не надо. Уходим.
Был при советской власти такой популярный анекдот: у армянского радио спрашивают, что это такое: кролики идут, а бобры стоят? Ответ внезапен: демонстрация трудящихся. Посланцы общественности, шагавшие по Красной площади 7 ноября с флагами и транспарантами, были по преимуществу в кроличьих ушанках. А члены Политбюро, стоявшие на Мавзолее Ленина, в ондатровых или бобровых шапках. Только Суслов, как всегда, в своём сером каракулевом «пирожке». Теперь этот анекдот надо долго объяснять, но тогда, в начале 80-х, все смеялись, как ненормальные, наливаясь праведным гневом. Простого человека в те годы куда больше бесила дефицитная шапка на голове начальника, нежели сегодня – реальная классовая несправедливость. Ныне, когда сталелитейный гигант, детище двух пятилеток, почти даром достался вору в законе с невыговариваемой грузинской фамилией, анекдотов об этом никто не рассказывает и не пузырится от негодования.
Куда идём? А главное – зачем? ¢

