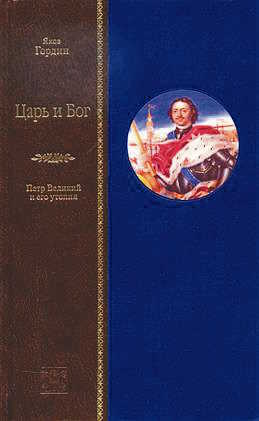
Яков Гордин. Царь и Бог. Пётр Великий и его утопия. – СПб.: Вита-Нова, 2023. – 552 с. – 800 экз. – (Жизнеописания).
Легендарный император представлен в этом документальном эпосе как «достойный представитель» века Просвещения с его «твёрдым нравственным релятивизмом» и склонностью к социальному конструированию и квазинаучным аналогиям между человеческим обществом и какими-то научно-техническими новинками – в данном случае механизмом. Уподобление общества стаду и организму ещё было впереди, а петровской грёзой было «построение Великой Утопии, «регулярного» государства, работающего как отлаженный часовой механизм».
«Необычайная парадоксальность сознания Петра заключалась в сочетании «жёсткого рационализма» и безудержного утопизма. Это была вулканическая смесь, порождающая катастрофический эффект». Хотя силовая составляющая механизма была, можно сказать, всё-таки более или менее выстроена.
Какими средствами? Механизм есть устройство для передачи силы от энергетического источника к исполнительным органам, и управляющий источник у общества-механизма может быть только один, все прочие должны быть полностью лишены свободы выбора перед абсолютной властью: «Его Величество есть самовластный монарх, который никому в свете в своих делах ответу дать не должен» (артикул 20 главы 111 «Воинского устава», 1716 г.).
А каждое нижеследующее звено передачи силы тоже должно было обладать абсолютной властью над подчинёнными, и диктаторы веками пытаются отыскать этот философский камень – власть, которой было бы невозможно злоупотреблять: при чудовищной жестокости расправ с казнокрадами «похищение государственного интереса» тоже было чудовищным, причём «разворовывали государственное достояние главные и усердные строители этого государства».
«Их лихорадочное стяжательство, скорее всего, объяснялось тем, что они не чувствовали надёжности той системы, которую создавали по приказу Петра, и опасались хаоса сразу по смерти её идеолога. И они стремились обеспечить себе безопасность материальную хотя бы. Поскольку безопасность политическая представлялась им весьма проблематичной».
Но и вчерашнее мужичьё, оказывается, уже тогда овладело искусством вывоза наворованных капиталов в безопасные европейские страны.
«Под покровительством Меншикова и при его прямом участии братья Соловьёвы, которые в конце ХVII века были неимущими простолюдинами, обогатились на 1 117 067 рублей, в то время как военный бюджет, скажем, 1710 года, составил три с небольшим миллиона.
С удивительным постоянством те, чьи действия угрожали Соловьёвым, сами оказывались под следствием и в пыточных камерах. Самоотверженный Курбатов, безуспешно пытавшийся открыть Петру глаза на истинное положение дел, умер в опале и под следствием».
Брать на себя полицейские функции приходилось самому монарху.
«Его царское величество сам неожиданно арестовал в Амстердаме г. Соловьёва и все его счётные книги и выслал его в Петербург под конвоем г. Нарышкина и 35 солдат прусской королевской гвардии. В упомянутых книгах оказались пять миллионов, похищенных у царя три или четыре года тому назад. (То есть в том самом 1714 году. – Я.Г.) И около 50 миллионов, которые под именем этого человека положены некоторым сановником в амстердамский банк».
«Люди-винтики» и не могут ощущать эмоционального единения с механизмом, в котором им отведена такая жалкая и унизительная роль, и Гордин совершенно правильно называет унижение одной из важнейших причин скрытого и даже не совсем скрытого протеста, по крайней мере, аристократической элиты.
Декабрист М.А. Фонвизин высказался на эту тему «точно и убедительно»: «Мечтая перевоспитать своих подданных, он не думал вдохнуть в них высокое чувство человеческого достоинства, без которого нет ни истинной нравственности, ни добродетели». Тираны не понимают, что, подавляя в подданных опасное для них чувство чести, они подавляют и честность: не только у этих слов, но и у этих явлений общая основа. Это постоянная тема Гордина – власть чести, материи, неуловимой для ультрабуржуазной пошлости исторического материализма, ставящего на первое место экономическую корысть.
В «Царе и Боге» Гордин много раз упоминает и «об этом игнорировании реальности как определяющей черте петровского мышления, о его ураганном утопизме».
Игонорировании не только психологической, но и геополитической реальности. Его «каспийский проект» – построение утопических врат в утопическую Индию – изображён с поистине художественной силой, это настоящая документальная трагедия. Трагедия в классическом смысле этого слова – столкновение великой личности и рока. Столкновение, в котором погибал не герой, а хор: «По массовости солдатских смертей потери за 1716– 1717 годы на Каспии превосходили потери в Полтавской битве».
Впрочем, никому не доверяя, ощущая себя бессильным перед всепроникающим воровством и обманом, Пётр и сам не чувствовал себя спокойным даже и за собственную жизнь.
«Слухи о мятежном настроении в гвардии вряд ли соответствуют действительности. Но важен сам факт упорного хождения этих слухов. Важно и то, что слухи эти, скорее всего, доходили и до Петра с его «собственными шпионами», о которых мы ничего не знаем».
В донесениях европейских дипломатов с самого начала войны со Швецией тоже постоянно мелькали слова «недовольство», «всеобщее недовольство», «склонность к мятежам»…
Относиться к подобным слухам скептически могут все, кроме тех, кому они угрожают. Простейшие эксперименты показывают, что чем выше плата за ошибку, тем более вероятной она представляется. «Постоянное пребывание на пороховой бочке (при наличии множества желающих поджечь фитиль) не располагало к трезвой оценке ситуации». Тем более тот факт, что военные заговоры всё-таки не осуществились, не означает, что они были невозможны. Не исключено даже, что их предотвратил превентивный петровский террор.
Другое дело, нужно ли ставить перед государством задачи, требующие такого террора, – вот в чём вопрос.
Как вам понравится «Артикул воинский» 1715 года?
«Артикул 20. Кто против его величества особы хулительным словом погрешит, его действие и намерение презирать и непристойным образом о том рассуждать будет, оный имеет живота лишён быть и отсечением головы казнён.
Толкование. Ибо его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять. И яко же о его величестве в оном артикуле упомянуто, разумеется тако и о его величества супруге и его государства наследнике. <…>
Артикул 133. Все непристойные подозрительные сходбища и собрания воинских людей, хотя для советов каких-нибудь (хотя и не для зла) или для челобития, чтоб общую челобитную писать, через что возмущение или бунт может сочиниться, имеют быть весьма запрещены. Ежели кто из рядовых в сём деле преступит, то зачинщиков без всякого милосердия, не смотря на тое, хотя они к тому какую причину имели или нет, повесить, а с досталными поступить, как о беглецах упомянуто. А ежели кому какая нужда бить челом, то позволяется каждому о себе и своих обидах бить челом, а не обще.
Артикул 134. А офицеров, которые к тому повод дали, или таким непристойным сходбищам позволили, или рядовых каким-нибудь образом к тому допустили, оных наказать лишением чести, имения и живота.
Атикул 135. Никто б ниже словом, или делом, или письмами, сам собою или чрез других, к бунту и возмущению, или иное что учинить, причины не давал, из чего бы мог бунт произойти. Ежели кто против сего поступит, оный по розыску дела, живота лишится или на теле наказан будет.
Артикул 136. Таким же образом имеют быть наказаны и те, которые таковые слова слушали или таковые письма читали, в которых о бунте или возмущении упомянуто, а в надлежащем месте или офицерам своим вскоре не донесли».
Иними словами, караются смертью не только попытки протеста, но и любые попытки объединиться даже при наличии уважительной причины.
«А суть была в том, что он не смог увлечь своих соратников той великой идеей, ради которой жил. Он, с его живым и безжалостным умом, должен был догадаться, что создаваемая им система только так и может функционировать. Он должен был покупать их лояльность».
Что в своей мечте о «регулярности» он наверняка воспринимал как нестерпимое унижение. Не задумываясь, видимо, что люди вообще не способны увлечься ролью винтиков и шестерёнок (шестёрок) необозримого механизма, они нуждаются в эмоционально значимых личных целях.
Через двести двадцать лет с подобной проблемой столкнулся другой диктатор-утопист – Адольф Гитлер. В 1993 году в Москве выходила книга одного из его собеседников, Германа Раушнинга, занимавшего высокий пост в вольном Данциге. В этих беседах Гитлер довольно откровенно рассказывал, как ему приходилось укреплять собственную власть, одновременно укрепляя власть правящей верхушки. Но сделать верхушку надёжной можно было лишь одним способом – что-то ей «предложить за годы борьбы», материально заинтересовать её в сохранении гитлеровского режима, – это явление можно назвать функциональной коррупцией. В узком кругу Гитлер выражался прямо: «Делайте что хотите, только не попадайтесь». В Германии тридцатых каждый банк, каждое предприятие должны были иметь свою партийную «крышу», нацистские бонзы занимали по три, шесть, двенадцать должностей. Утратив правовую защиту, спокойным себя не чувствовал никто, поэтому все стремились перевести капитал за границу и запасались компроматом друг на друга. Честные гауляйтеры были вынуждены вести себя так же, чтобы не потерять должность или вовсе не исчезнуть. Всё это не расходилось ни с тактическими целями, ни с принципами Гитлера: «Мои люди не ангелы, а ландскнехты. Мы не станем повторять глупости о духовном возрождении. Мы – сила нации, вырвавшаяся наружу». Честность была ему даже подозрительна – честному человеку могут прийти в голову мысли самые неожиданные. «В мою задачу не входит нравственное улучшение человечества – я лишь хочу пользоваться его слабостями. Хотя я и не желаю славы врага морали – зачем давать противникам лишние козыри. Но полагаться я могу лишь на тех, чья карьера неразрывно связана с нашим общим делом, мне подозрительны чистюли, для кого патриотизм – единственный мотив их действий».
До такого цинизма Пётр не опускался или не возвышался, он реально желал своей дубинкой вытесать «нового человека». И всеобщее равенство перед его дубинкой с неизбежностью порождало мечту об избавителе, у наивного простонародья претворившуюся в легенду о царевиче-народолюбце, «будто в Москве царевич, окружённый донскими казаками, ходит по улицам и приказывает кидать в ров встречающихся ему бояр, а царь ненастоящий, и он не признаёт его царём».
У более рациональной и бесконечно унижаемой части аристократии эта мечта выражалась уже в надеждах
сменить правительственный курс при царе-наследнике, что не могло остаться тайной для его отца: «Не знаю, кому теперь верить, всё задумано, чтобы меня погубить, кругом одни предатели».
Этот страх и заставил его в октябре 1715 года написать сыну роковое письмо.
«Сочинённый Петром исторический документ, заложивший основы бытующего по сей день мифа, есть, собственно, грозное предписание самодержца современникам и потомкам: как дулжно трактовать причины предопределённой трагедии.
Это удивительный документ, обращённый не столько к непосредственному адресату, сколько к миру и городу.
Роковое письмо – не что иное, как продуманное оправдание уже решённой расправы с «непотребным сыном», законным наследником, единственным, кого «предатели и мошенники» могли в кризисный момент – военных неудач или внутренних неурядиц – противопоставить ему, носителю абсолютной власти».
И что же инкриминировалось «непотребному сыну»?
«Паче же всего о воинском деле ниже слышать хощешь, чем мы от тьмы к свету вышли, и которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законныя причины, но любить сие дело всею возможностию снабдевать и учить: ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. Не хочу многих примеров писать, но точию равноверных нам Греков: не от сего ли пропали, что оружие оставили и, единым миролюбием побеждены и желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в нескончаемую работу тираном отдал?»
Этим и обосновывался грозный итог.
«Известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангренный, и не мни себе, что один ты у меня сын и что я сие только в устрастку пишу: воистину (Богу извольшу) исполню, ибо за моё отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребнаго пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный.
В 11 д. октября 1715.
При Санкпетербурхе
Пётр».
Пётр не мог не понимать, что монарху совсем не обязательно лично водить полки, это вполне можно доверить профессионалам. «Главным было другое: создать волевым усилием в глазах современников и потомков образ никчёмного, ленивого, непослушного царевича, неспособного продолжить великое дело, ради которого было принесено столько жертв, злонамеренного выученика ретроградов.
Полная неспособность царевича к усвоению знаний – абсолютный вздор», – и Гордин доказывает это множеством фактов, перечисляя его учёные занятия и высокоумные богословские книги на нескольких языках, которые царевич постоянно читал.
Впечатляют и его хозяйственные труды, связанные в основном с тыловым обеспечением: «Заготовление провианта и фуража; набор офицеров, солдат и рекрут, их обмундирование и вооружение, смотр и приучение к службе; заготовление артиллерии и её припасов; наблюдение над крепостными работами в Москве; сношения с шведскими пленными; пересылка разных лиц; передача полученных известий; определение и смена должностных лиц, наблюдение за течением дел, поверка счетов, устройство почты и поставка подвод, заготовление корабельных лесов и исполнение разных поручений, между прочим раздача книг для перевода».
К сожалению, искусство тоже приложило руку к созданию мифа о ничтожном наследнике: на картине Николая Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» несчастный Алексей «представлен унылым, узкоплечим и субтильным, что должно соответствовать его внутреннему миру как человека ничтожного». В советском фильме 1937 года он ещё более жалок – но там уж был явный заказ власти.
А между тем он был вполне хорошо сложён, а уж в духовном смысле «перед нами отнюдь не религиозный фанатик и ханжа старомосковского толка, каким его часто представляли историки, но жадный до духовного знания и думающий человек, искренне и бескорыстно верующий.
А это означает, что, отправляясь в эмиграцию в 1716 году, Алексей взял с собой значительную часть своей библиотеки – «книг на разных языках: немецком, польском, латинском, греческом, русском (1 книга). Книги эти изданы в самых различных городах Западной Европы: Амстердаме, Париже, Базеле, Берлине, Лейпциге, Дрездене, Гамбурге, Франкфурте, Мюнхене, Нюрнберге, Кёльне, Стокгольме, Кракове, Калише и др. <…> Что же касается тематики книг Алексея Петровича, то на основании каталога можно сделать вывод, что в его библиотеке преобладали книги религиозного содержания, особенно привлекавшие внимание царевича, но была и светская литература по истории, военному делу, математике и другим отраслям знания.
В нём не было гигантского масштаба замыслов Петра. По сравнению с отцом он был зауряден.
Но – что важно для возможного государя – не было в нём и безжалостной утопичности миропредставления, когда цена реализации замысла не имеет значения».
А между тем реальный мир противился утопической грёзе и через воровство соратников, и через народные восстания, и через разгул криминала.
«Так, в июне 1711 г. генерал-губернатор и генерал-фельдмаршал, «герцог Ижорский» А.Д. Меншиков с тревогой известил Правительствующий сенат, что по Санкт-Петербургской губернии «в разных местах ходят воры и разбойники великим собранием и многие сёла и деревни разбили и пожгли». Попутно открылось, что направить против разбойников некого, поскольку в уездных городах «служилых людей ныне нет». Впрочем, как явствует из сенатских документов, настоящий криминальный террор, обрушившийся на северо-западные уезды, встревожил власти по единственной причине: непрерывные нападения банд полностью парализовали сбор и отправку рекрутов и денежных сборов. Участь оставшихся без всякой защиты от преступников тысяч крестьян ни «герцога» Александра Меншикова, ни господ сенаторов не волновала».
Чувствуя своё бессилие перед этим необоримым хаосом, демиург, скорее всего, с какого-то момента стал видеть в сыне «олицетворение этого смертельно опасного мира».
А все, кто его поддерживал, становились смертельными врагами.
Один из любимцев Петра, Александр Кикин, которого Пётр когда-то называл дедушкой, был колесован.
«Во время следствия, в застенке, Пётр спросил у истерзанного Кикина: «Как ты, умный человек, мог пойти против меня?» И Кикин ответил: «То-то что умный! Ум простор любит, а у тебя ему тесно».
Дело царевича Алексея было «далеко не в последней степени замешено на этой проблеме – проблеме человеческого достоинства, проблеме «тесноты ума».
«Если начать перечислять родовитых персон из «партии наследника», то оказывается, что все они прошли через унижение перед теми, кого втайне презирали, – перед Меншиковым, перед Екатериной, не говоря уже о постоянном страхе быть оскорблёнными царём. Вне зависимости от наличия вины или её отсутствия.
Есть основание полагать, что значительную роль играл «фактор Екатерины» – пленной простолюдинки, военной добычи, любовницы Шереметева, Меншикова, а затем подруги Петра и в результате царицы Российской…»
И чего же желали эти оппозиционеры?
«Когда Алексей говорил, что надеялся на тех, кто «старину любит», то в качестве примера он называл не кого-нибудь, а Тихона Никитича Стрешнева – боярина и сына боярина, сопровождавшего Петра с рождения до своей смерти в 1719 году, государственного человека, который с полным правом считался образцом верности Петру и его делу.
Под «стариной» подразумевались не горлатые шапки и шубы с рукавами до земли на степенных боярах, и не стрелецкое войско, и не малоэффективный приказной распорядок дел, и не угрюмое презрение ко всему иноземному еретическому, а некая система человеческих взаимоотношений, ориентированная в известной степени на самого человека. В это понятие «старины» входила возможность естественного жизненного ритма, а не бешеной гонки ради грандиозной бездушной цели. В это понятие «старины» входили и отношения с Богом как с высшей и благой силой, не подчинённой воле «Христа Господня», представителя и заместителя Бога на земле. В этой «старине» были и воинская доблесть, и любовь к отчему краю, и верность своему государю, но всё это не требовало ежедневного изнурительного гибельного напряжения».
Естественный жизненный ритм против бешеной гонки ради грандиозной бездушной цели – это едва ли не важнейший конфликт и во всей постпетровской российской истории. Но что можно считать естественным в человеческом обществе, в котором искусственно решительно всё? Я бы назвал естественным тот ход вещей, который в основном принимается хотя бы мыслящей и активной частью общества, который не требует непрерывного массового насилия.
Тот же ход вещей, который такого насилия требует, требует и неограниченной власти лидера и его верхушки. Причём лидер должен либо и верхушку держать в страхе, и сам жить в страхе перед нею, либо мириться с её распущенностью и жить в страхе перед народным недовольством. Иными словами, он должен выбирать, кого терроризировать – народ или элиту, и после этого жить в полном одиночестве и в конечном счёте бессилии, ибо, кого ни распускай, цель останется недостигнутой либо из-за коррупции верхов, либо из-за протеста низов, путь даже выражающегося в массовом саботаже, а не в открытых выступлениях.
Так что любая грандиозная цель, не пользующася одобрением достаточно большой части элиты и массы, непременно требует диктатуры, но в конечном счёте порождает сначала изоляцию, а потом и поражение самого диктатора, пусть иногда и за пределами его биологического существования.
Увы, у нас в России это многих славный путь.

