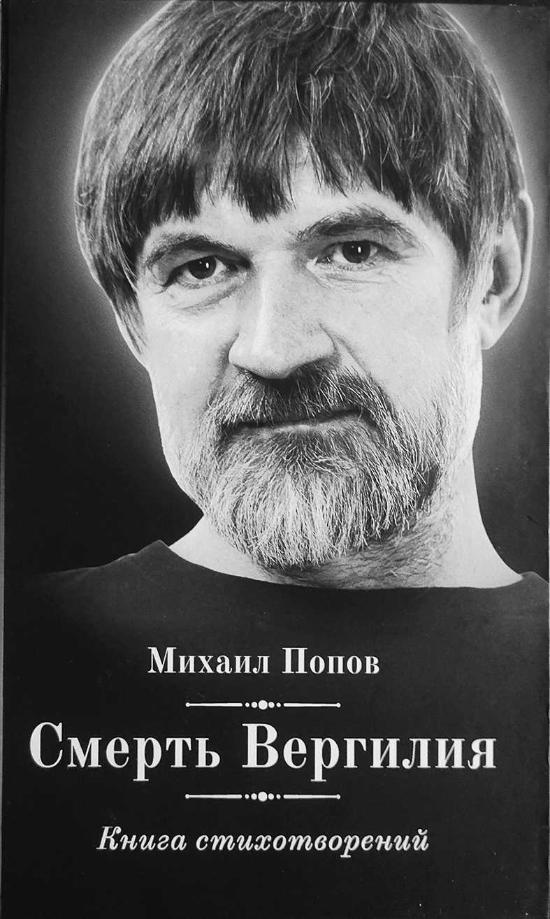
На самом деле вопрос не праздный. Думаю, что и сам Михаил Попов, талантливый поэт и прозаик, давая название своей новой книге стихотворений «Смерть Вергилия», не подозревал, насколько точно и актуально будет это обращение к памяти легендарного римского поэта, как известно, ставшего проводником Данте по кругам ада в его «Божественной комедии».
Отличающийся редким даром иронии, утончённо грубоватого юмора, Попов даже в короткой аннотации к сборнику сумел так построить фразу, что забавная двусмысленность её обещает интригу. Читателям объявлено, что автор «всегда писал стихи, но редко издавал свои поэтические сборники, которые к тому же заслонялись его многочисленными романами».
Но мы знаем, названия такого рода не могут не быть концептуальными. И самим словом «смерть» да ещё в сочетании с именем Вергилия просто так не разбрасываются. За этим должно стоять нечто серьёзное и важное. На ум приходит аналогия с Ницше, с его «Бог умер», ставшим спусковым крючком для последовавшей затем всё обессмысливающей постмодернистской философии, якобы санкционированной смертью Бога, когда предсказанное Достоевским «всё дозволено» стало реальностью. Итак, если столетиями олицетворявший в себе идеальный образ Поэта и служения Поэзии «Вергилий мёртв», значит, говоря языком Шекспира, произошёл непоправимый «вывих века» и в современной культуре, в целом в жизни человечества случилась экзистенциальная катастрофа и (да простят меня за сравнение!) благодатный огонь истины больше не сойдёт на поэтические строки. Отныне пишется соответствующий веку вариант теперь уже «небожественной комедии».
Таков, надо понимать, подспудно, может быть, даже интуитивно заложенный философский ключ и общий мотив (не прямое, сущностное послание) этой замечательной поэтической книги Михаила Попова. Книги итоговой, к которой автор подошёл, можно сказать, «земную жизнь пройдя до половины». И тут мы видим предельно откровенную историю нашего современника – глубокого, остроумного, весёлого, яркого, беззаботного, любвеобильного, в меру фривольного и в то же время нежного, ранимого, трогательного, мятущегося, ищущего, испуганного, беззащитного, страдающего в экзистенциальном тупике перед вечными вопросами бытия, растерянного интеллектуала, знающего секреты литературной игры, эквилибристики словом. Но в общем и целом словно бы оказавшегося без условного дантовского «проводника» (духовного водителя), не находя выхода из ничтожных кругов измельчавшего современного ада, из страха смерти, из беспросветности неверия и безысходности, из той самой постмодернистской вседозволенности, пошлости коллективного святотатца и хохмача Хама, смеющегося уже не только над наготой отца, но и над собственной матерью, над наготой Истории, над родным пепелищем, над отеческими гробами…
Блестящий прозаик, умеющий виртуозно выстроить сюжет (достаточно прочитать хотя бы недавно вышедшую в «Роман-газете» (2023, №12) его феерическую повесть «Трое неизвестных»), Михаил Попов также мастерски владеет поэтической формой. Так написаны многие его лучшие стихи, достоинство которых не только в необычности выбранной темы, истории, но и в их краткости, в безупречном знании материала, в обаянии живой, богатой смыслами разговорной интонации, иронии, в остроумных неожиданных поворотах, в ассоциативном и реминисцентном ауканье и перекличках разных культур, имён, эпох. И в стихах он рассказчик, повествователь, открыватель, искусный изобретатель сюжетов.
Сюжетно основано на историческом факте и стихотворение «Смерть Вергилия». История, её оригинальная современная интерпретация, – любимый конёк Попова – поэта и прозаика, где ему, пожалуй, нет равных сегодня. Но что удивительно для такого умного, изощрённого поэта, как М. Попов, даже у него в изображении весьма драматичного сакрального события, связанного с уходом человека, уже присутствует капля разъедающей постмодернистской эссенции:
Поверхность гавани
никогда не бывает гладкой,
Вёсла стряхивают искры заката в воду,
Корма триремы оснащена палаткой,
На пристани полтора Рима народу.
Толпа встречающих
занята параллельно
Сотнями дел,
там и воровство, и злословье,
Вергилий прибыл к ним,
но лежит отдельно,
Врачи у него в ногах,
а смерть в изголовье…
В его присутствии уже не брякнешь
«мементо…».
Душа над телом
в потоке закатной пыли,
Человек стремительно становится
монументом,
Он слишком велик, чтобы его любили…
Поэт особенно силён в сюжетных стихах, в которых фактура прозаическая, таков же тяжеловатый, с раскачкой длинных строк ритм, брутальный современный словарь с элементами архаики и почти всегда – как бывает в кино – с закадровым рассказчиком, который и мудрец, и философ, и насмешник одновременно:
В империи много зависит
от качества императора,
Не должны Калигулы
править там постоянно.
«Внутреннее государство»
работает на манер эскалатора
И может выкинуть наверх
и Марка Аврелия, и Траяна.
Варвары являются
главной имперской загвоздкою,
Наготове тевтоны,
вандалы, маньчжуры,
Империя то гнёт с ними линию
крайне жёсткую,
То вдруг развернёт
унизительные шуры-муры…
В его стихах заметна отравленность Серебряным веком, когда вдруг он едва ли не цитатно повторяет интонацию и излюбленные темы Георгия Иванова, как и тот, в побеге от страха смерти, исчезновения, безверия, пряча своё отчаяние в едкую иронию, в повторяющиеся вопросы к Небу, заранее ожидая на них ответа:
Помоги мне, Господи, хоть в этом,
Как мне смерти перестать бояться?..
Будет всё, как писано в скрижалях?
Но в какие именно мне верить?
И сомнения ужасно жалят,
Глубины их чувством не измерить.
Подкачал и неразумный разум,
И лечу в распахнутую бездну.
Чёрным всё кончается экстазом,
Я навечно, полностью исчезну!..
Интонацию Иванова Попов, кажется, умышленно подчёркивает, чтобы показать эстетическое и саркастическое родство с поэтом, вместе с которым продолжает неутраченную актуальность осмысления судьбы России:
Чем дольше жизнь, тем сны чудеснее,
Я рад моим ночным дарам,
Смотрю – вот комсомольцы с песнями
Достраивают Божий храм…
Как в репьях, он в бесконечных вопросах, порою честно называя их нытьём. Многие его стихи – в чистом виде рефлексии на… Как замечал Чехов, «в наших талантах много фосфора, но нет железа». Тут всё, что мешает жить, не думая о «заботах суетного света», о «подвигах, о доблести, о славе», о нескончаемых страхах, о бренности нашей жизни… И если уж любовь нагрянет на героя, то, как правило, «без божества, без вдохновенья, без слёз…»:
Сколько от моих неловких рук
Ускользнуло молодых красоток… –
признаётся он и тут же, без перехода, продолжает рефлексировать о высоких материях:
Но откуда пасмурный снобизм:
Всё известно мне, и всё мне пресно.
Не хочу я повторять на бис
Путь, где и в начале только бездна.
Не случайно в книге одна из повторяющихся – тема литературная, о муках творчества, словно мы невольно присутствуем в лаборатории, где поэт ищет философский камень с помощью алхимии слова. Понятен этот перебор в теме: он слишком литератор, слишком поэт, слишком интеллектуал, всеми корнями проросший в литературу. Притом что сам «родом из угрюмых общежитий». И эта прививка реальной жизнью иногда вдруг прорывается в нём, сбрасывая всю книжную и прочую мишуру:
Я прожил жизнь
почти на самом фланге,
Мой карабин был временами ржав,
Теперь пою «Прощание славянки»,
Уже не в силах слушать Окуджав.
Поэтическая книга Михаила Попова мне представляется той острой гранью, той «зияющей» высотой, с которой при желании возможно попытаться понять что-то в себе, пустоту времени, причину тоски, свои ожидания. А главное, испытать жажду по утраченному источнику Поэзии:
Вот так, прибывая,
мы всё-таки убываем.
Вергилий вошёл в гавань,
что из этого выйдет…
Его практически нет, но мы изнываем,
По тому, что он знает,
а может быть, даже видит.

