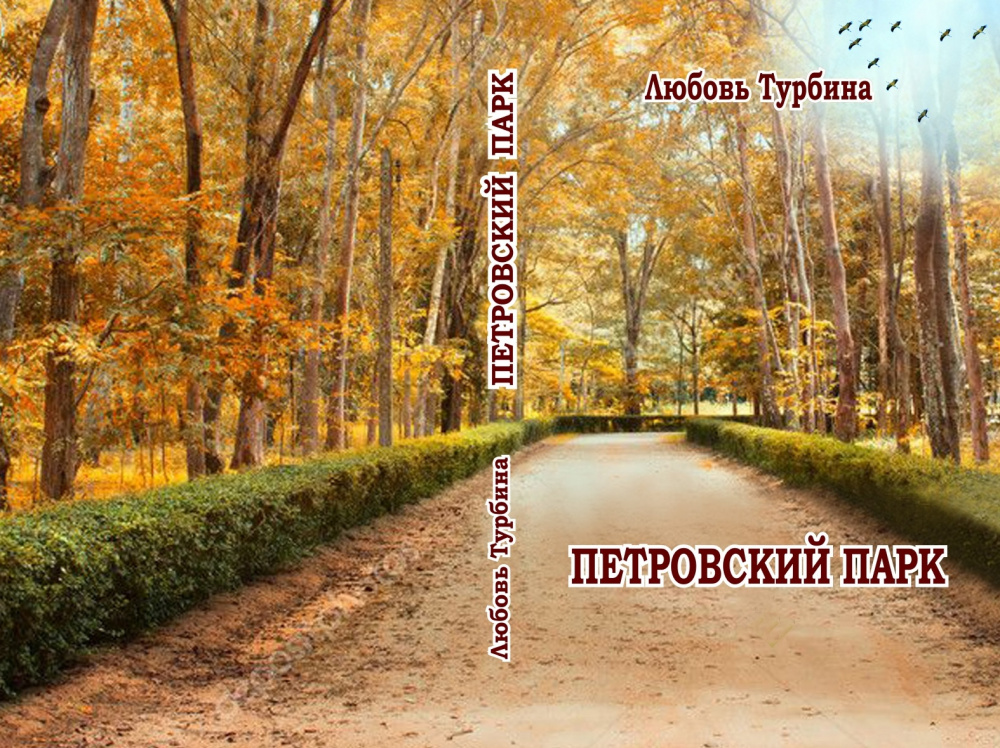Любовь Турбина. Петровский парк. Стихи. – М. .Изд. «Восточный Экспресс», 2020, – 168 с. Книга издана при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ и СРП.
Любовь Турбина в своем поэтическом творчестве, несомненно, принадлежит к петербургской школе. Хотя родилась в Ашхабаде, куда была эвакуирована ее семья, а потом лишь несколько дет детства пришлись на послеблокадный город – ее отец-академик был переведен в Минск, где она и выросла, получила высшее образование и далее, уже будучи кандидатом биологических наук, закончила в Москве Литературный институт им. Горького, став в конце концов москвичкой.
Когда у очень петербургского Андрея Битова на встрече с читателями спросили, кто его учителя, он ответил – город, его камни, его архитектура, то есть Ленинград/Санкт-Петербург. Да, именно от этого города архитектоника стихов Любови Турбиной, приверженность к классическим пропорциям, к взвешенности чувств и мыслей, к строгой отточенности формы. В отношениях лирической героини с окружающим ее пространством – и дань традиции и своя, незаемная интонация, выстраданная неповторимым опытом жизни.
Нынешний сборник «Петровский парк», вышедший в этом, 2020-м, году, автор считает итоговым, и даже если это еще не итог, есть повод определить характерные особенности собранных в нем стихотворений.
Перед нами лирическая поэзия, а значит, в ней присутствует альтер эго автора, лирический герой, автобиографический двойник, готовый к исповеди. Иначе это не работает. Но искренность, исповедальность требуют от поэта немалого мужества. Выход на подмостки – это испытание лишь для сильных духом.
Перо нам – от птицы, из древа – бумага,
Из тучи – чернила, небесная влага
Усмешки и слезы – все в дело, все благо,
Но где взять решимость для первого шага?
От первого шага до легкого взмаха
Лежит полоса отвращенья и страха.
Пока на груди не промокнет рубаха,
Не вылетит слово, живое как птаха.
Перо нам от птицы, из древа – бумага…
Шаг сделан, а дальше… дальше жизнь, а точнее – отражение внешнего мира в мире внутреннем, в космосе души. Она же полна неупокоенности, ожидания перемен. Состояние лирической героини подчас рифмуется с осенью – временем (пусть условных) утрат.
По пожелтевшим страницам, отжившим эпохам…
Кто-то невидимый листья листает со вздохом.
Где мы? – зову. На вопрос не дождаться ответа.
Дачные домики стынут без дела до лета.
Голы поля, а деревни и пусты, и бедны…
Лечь, успокоиться, сгинуть навеки бесследно.
Но утраты могут быть и реальными:
И спицы впивается жало
Когда отворяется шкаф –
Тебе этот свитер вязала,
Не кончила левый рукав.
А сад зарастает крапивой,
А в доме – холодная ночь…
Смотрю, как уходишь, красивый,
Стою и не смею помочь.
Судьбу утюгом не разгладишь –
Дорога пошла на излом…
Последний, единственный, младший
С одним лебединым крылом.
Или:
Мой бывший муж! Ужель все зря –
Все те метанья, всплески, слезы?
Летят листы календаря,
Судьба ложится под колеса.
Так возникает тема пути – метафора странствия, подчас без пункта назначения, как самоцель в бесприютности бытия:
Под вечер выскочить из дома –
Кто не оглянется – тот прав!
Но оглянусь и по живому
Отрежет, тронувшись, состав.
А вот из другого замечательного стихотворения:
Постоянно полустанок, ветер серый и бездомный,
На пустой платформе с Таней стынем мы, пожитки сжав…
Оказалось – на распутье мы живем в стране огромной,
Из туманно-желтой мути приближается состав.
И далее:
Нам сойти бы – остановки нет. В мелькании названий
Отрывает безвозвратно, удаляет наотрез
Нас оттуда, где в предвечном, грозном, розовом сиянье;
Косогор, дымится баня срез луны, застывший лес,
Конь пасется вороной,
Дом родимый за спиной.
Родной дом за спиной – как одновременное ощущение опоры и потери. В этом движении не только сквозь пространство, но и сквозь время проступает образ огромной страны, пережившей войну, но не обретшей духовного мира, не знающей цели.
Давка у автовокзала
Реплики, ропот и ор.
Ветру открытый, безмерный.
Сорванный с места простор.
Война в стихах Турбиной – это то, что пережито страной, родителями, то, что осознано потом, в ретроспективе:
Свинцовою тучей прошел над страной
В тот год, самый первый из прожитых мной:
Волна эпидемий, и голод, и зной –
Далёкого грома раскаты –
Сердца в напряжении сжаты.
Нас выжило мало, рожденных тогда…
Однако послевоенные годы в послеблокадном Ленинграде уже освещены собственной памятью поэта, и каждая деталь таких стихотворений – бесценна как свидетельство того времени. Одно из них хочется привести полностью.
Ленинградская весна
Дворы-мешки, дворы-колодцы…
Что там, за каменный стеной?
Ни шагу, чтоб не напороться
На след, оставленный войной.
Вприпрыжку, с улицы, сквозь арку
(Где втайне мы жевали вар)
Вбегала, радуясь подарку,
Но улетал за крыши шар.
Печали детства так мгновенны,
И было нечего копить,
Хоть предлагал нам немец пленный
За хлеб – копилку смастерить.
Весна по улицам бродила,
Дул теплый ветер из-за стен…
Тогда с особенною силой
Счастливых ждали перемен.
Да, перемены в стране наступят, но счастливыми их не назовешь. Взять хотя бы сфабрикованное властью «Ленинградское дело», по которому в конце 40-х – начале 50-х были репрессированы и расстреляны многие видные партийные, советские и хозяйственные работники города. Хотя – да, после смерти Сталина наступит то, что историки назовут словом «Оттепель». Но детство имеет право на счастье, как и юность – на надежду. Да и не только детство и юность. Душа ведь принадлежит скорее не социуму, а гипотетическому духовному универсуму, как бы Высшему началу, построенному по законам гармонии, справедливости и добра.
Вот стою на пороге, всем ветрам отверста,
В узелке уместилась вся кладь,
Еще бродят по свету сколько хочешь ответов –
Кем угодно могу еще стать
Однако, похоже, у детей войны, выросших и ставших отцами и матерями, сердце так и осталось «сжатым от напряжения», которое порой почти невыносимо.
Когда впереди нищета и мытарства,
Уехать – такая мелькнула возможность!
Но и отъезд может быть чреват потерей чего-то важного и дорогого… например, города детства.
Не изгоняли, увезли,
Без лишних слов, по малолетству –
Туманный берег, город детства –
Громадой каменной вдали.
Университет и длинный двор,
Где пахло гарью и цветами…
Вторично мы родимся сами
Там, где душа отверзет взор.
Во сне я видела зимой
Последний день – без колебанья
Моё последнее желанье –
Перенестись туда, домой.
Блестит замерзшая Нева,
Я вдоль – не узнанною тенью,
Как уличенная в измене,
Как будто я уже мертва.
С закатом истекает срок,
И слабо теплится надежда:
Меня узнает встречный прежде
У дома, где родился Блок.
Какая тут дивная перекличка с ностальгией Набокова, Мандельштама, Ахматовой… Петербуржцы, разумеется, понимают, что речь идет о так называемом Доме ректора на набережной Невы, рядом с университетскими зданиями петровских двенадцати коллегий. Там, в одном из домов в университетском дворе и жила семья профессора ЛГУ, будущего академика Турбина.
При всей турбулентности бытия все же в каждой жизни наступает период обретения себя, осмысления своего места в мире, в ежедневном быту, в полетах над ним. Это время зрелости духа, время утверждения непреложных ценностей, к которым рано или поздно приходит ищущий и взыскующий истины.
Стремление все увязать воедино –
Четыре портрета, четыре картины,
Четыре лица одного человека:
Крест-накрест, на каждую сторону света.
Или вот, например:
Нас уносил Шопен куда-то по спирали…
Грядущих перемен понятен смысл едва ли:
Свечение двух лиц – напротив, с чашкой чая,
Общенье без границ – я по тебе скучаю!
Полеты над бытом могут быть такими:
И приоткрылась тихо дверь –
Ты попадаешь в мир особый,
Для зависти и мелкой злобы
Недосягаемый теперь.
Стряхни слой пыли с башмаков,
С души – обыденности меты,
И станут внятными поэты
Чужих наречий и веков.
Или – как благодарность создателям и хранителям кода русской культуры, упокоившимся в вынужденной эмиграции далеко от Родины на кладбище Сент-Женевьев дю Буа:
Два выпуклых стекла, скрепляющая дужка,
Две линзы на могиле, слабый свет.
И траурницы вяло, друг за дружкой,
Порхали, шелестя какой-то бред.
Две бархатные бабочки с одышкой
Взлетали тяжело среди имен,
Известных на Руси не понаслышке
Героев, гениев и дам былых времен.
И бунинское «Легкое дыханье»,
И тихий шепот: «Вечером у Клер?»
А Сталкер лег в магическом молчании
И образы следил из дальних сфер.
Казалось, так легко поддаться нежной силе,
Которая остаться тут влекла,
Что я очки забыла на могиле –
Но все-таки вернулась и нашла.
Найти очки – это как обрести зрение и генетическую связь с отторгнутым большевистской страной духовным наследием России. Нежная сила – вот, пожалуй, слова, которые в полной мере характеризуют не только тот плодотворный пласт русской культуры, оказавшейся на чужой стороне, но и особенность и притягательность стихов Турбиной.
Литература, искусство, воспринимаемые как параллельная реальность, дают возможность ощущать себя в двух мирах. Впрочем, их столкновение бывает и драматичным, тем более, для неокрепшего сознания, скажем, для ребенка, слишком рано заглянувшего в книгу для взрослых…
Глаз этих детских листочки зеленые
Требуют точный ответ…
Вот и раскаты грозы – отдаленные.
Всполохи, яркий их свет.
В сердце ребенка – открытая рана,
Ветер свечу не задул,
Рыбка дорвалась до океана,
Мечется между акул.
Лев Николаевич, сон как агония,
Дочь – убегающий след…
Ну поженил бы Николеньку с Сонею –
Скольких бы не было бед!
Но то, что написано пером… Впрочем, и в реальной жизни свершившееся не вырубить, не удалить. Инвариантность судеб литературных героев – как урок или предупреждение, пример того, как надо или не надо поступать. В искусстве и литературе разыграны все ходы и выходы. Как бы делай вывод и выбирай, но жизнь, судьба подчас сами выбирают – нас или за нас…
Стихи о любви… Любовные коллизии – темы особенно рискованные для их автора, где так легко соскользнуть на общие места, и повторы. Но не в данном случае:
И вдруг поверить до конца
Посмела – истово, рисково,
Не в обещание, не в слово.
А в выражение лица.
….
И были: озеро, трава,
Но зазвучали сроки, даты,
Ты не звонишь – я виновата,
И зазвучал мотив утраты –
Еще вдали, едва-едва.
И как апофеоз любви – такой вот подлинный шедевр, может, главная жемчужина сборника:
Ты есть – случилась весть
В миру невзгод и бедствий!
Не различить, не счесть
Первопричин и следствий.
Иных, чем легкость плеч,
Не требуй подтверждений!
Уплыть от глаз, облечь
В покровы сновидений…
О, бедный Соломон!
О, Суламифь нагая!
Течёт по венам кровь
Стихи из слёз слагая.
Качается ковчег –
Живое вечно хрупко –
Стряхнув с оливы снег,
Приносит ветвь голубка.
В размышлениях о судьбах народа, среди метафор сиротства, неприкаянности, невозможности что-либо кардинально изменить, вырваться из тенет фатализма, как бы прописанного в характере и образе мыслей русского человека, особенно ярко обозначена у Турбиной тема лишнего человека, воспринятая от классиков нашей литературы.
Приведу стихотворение полностью:
Рудин
Русские лишние люди –
Это не барская блажь!
Нет, не Онегин, а Рудин –
Вот удивительно наш.
Нет, не Печорин, но Рудин,
Бедности горькой в когтях,
Ибо бюджет его скуден –
Часто обедал в гостях.
Нет, не Обломов, а Рудин –
Идеалист, книгочей,
Речь произносит – и чуден
Взор его в блеске свечей.
Благоухает жасмином
Теплая южная ночь…
Поздно. Опять по равнинам
Мчится в кибитке он прочь.
В той мировой круговерти
Спутались судьбы идей…
Рудин – три шага до смерти
Множества лишних идей.
Нет, не погиб он в Париже
И, если верить молве,
С красным полотнищем вышел
К белому дому в Москве.
Выстрел тяжелых орудий!
И, как развеется дым,
Знамя поникло, и Рудин
Тихо скончался под ним…
И если, скажем, в советское время русская интеллигенция, как носитель культурных идеалов нации, была по марксистско-большевистскому проекту поставлена на службу гегемону – пролетариату, то в наши дни она как бы вовсе исчезла, точнее сказать – растворилась в социуме малоимущих и невостребованных. Потому еще суровей звучат строки следующего за героем тургеневского романа стихотворения, пусть иносказательно, под маской мифа:
Нас под гипнозом лишили
Прежних заслуг и наград.
Чести, достоинства, славы…
Новый порядок – виват!
Если богатый, то правый,
Бедный всегда виноват.
Если нет золота, плата –
Кровь наших юных сынов…
Русь, ты и впрямь виновата
Сменой не вех, но основ.
Впрочем, к чему эти споры?
Светлый мерещится блик –
Духа славянства основа:
Речи пречистый родник.
Достаточно ли родника славянской речи для надежды на иное, более достойное страны и его граждан будущее? Вопрос риторический. Но никто не лишит нас упований. Одна из задач высокой поэзии – поощрять такие упования, находить свет во тьме.
И все же – не слишком ли жестко и горько, а порою даже безнадежно? Нет, не слишком, если правдиво. Да, действительность сурова, реальность дает мало поводов для светлых иллюзий. Но тем не менее жизнь продолжается. А искусство, в том числе искусство слова, и рождается из сопротивления энтропии.
Про переводы Любови Турбиной с белорусского, которые щедро представлены в этом сборнике, хочется сказать особо. Вообще, переводная поэзия, на мой взгляд, это чаще всего фикция, папье-маше, повторяющее разве что внешнюю форму оригинала, но никак не его сущность, оставаясь бумажно-картонной, на клею, поделкой. Ибо хорошие стихи состоят из воздуха и дождя, из звездного дыхания, из спазма удивленной души - как это передать? Магия слова в переводе, как правило, исчезает, и мы получаем только брикет информации, завернутый, в лучшем случае, в нарядную фольгу. Исключение – это когда за дело берется хороший поэт и создает некое свое подобие оригинала, свою ритмо-мелодическую реплику, пропитанную глубокой душевной эмпатией. Таковы и переводы Турбиной. Главная их особенность – они не похожи на переводы. Это стихи, написанные крепко, рукой мастера, по-русски. И что особо удивительно, каждый раз это как бы другая рука – и интонации Рыгора Бородулина не спутаешь с ритмами Владимира Некляева или с изяществом Галины Корженевскоий.
Ну, например:
У Корженевской:
Природа снова манит нас в капкан,
В свою игру опять играет с нами,
Ты завладел вполне моими снами,
Пока пишу про вереск и туман.
У Бородулина:
А ливень так и не обрушился,
Подался вдаль, во мрак завернутый,
И не взаправдашней, игрушечной
Стояла радуга за городом.
У Некляева:
Как страшно черна ледяная вода!
Но гонит судьба ветром, дующим в спину,
И я, хоть не знаю – зачем и куда,
Со льдины на льдину, со льдины на льдину...
У Анатоля Сыса:
О, как складно и вечно ведут караван журавли,
их языческий клекот слагается в песни астральные,
а на том берегу вдруг проснулись в созвездие львы –
это ты, моя любая,
песни запела купальные.
Перед нами прекрасная книга, сверкающая отточенностью стиля и мысли, полная искренности и глубины, и исповедальной тяги к истине, что бы последняя ни обозначала. Это очищающая тяга помогает жить и преодолевать то, что по жизни следует преодолеть ради высших смыслов, позволяющих не только смириться с неизбежным, но любить все, что вокруг. Пусть строгой, даже суровой, любовью.
Игорь КУБЕРСКИЙ