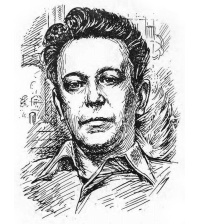
Поэт Юрий Кузнецов, на мой взгляд, создал в русской поэзии новое направление символизма, отличное от одноименной литературной школы, существовавшей на рубеже XIX и XX веков.
Помните статью Осипа Мандельштама «Утро акмеизма»? Это была не единственная, но настойчивая попытка сдернуть покрывало метафизики с символизма, высвобождая поэзию от так называемых пут многозначности и неопределенности. Но сводить символизм лишь к туманам мироздания примитивно и грубо. К сожалению, рамки небольшой статьи вынуждают прибегать к широким мазкам обобщения.
Поэтому поспешим выделить основную мысль: символизм Андрея Белого, Александра Блока, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и других поэтов этого литературного направления условно можно назвать «метафорическим», подразумевая создание бесконечных ассоциативных отскоков, которые и создают иллюзию глубины познания мира, попытку заглянуть за складки реальности. Поэты-символисты, понимая религиозную сущность искусства, пытались воздвигнуть «новые миры», по крайней мере, преобразить посредством искусства существующий. Прекрасная и благородная цель. Но вернемся к заявленной теме.
Обратите внимание, Юрий Кузнецов сознательно отказался от метафоры. И не только потому, что это поэтическое средство выражения не позволяет добиться точности стихотворного высказывания. Метафора, в принципе, противоречит его поэтическому сознанию, точнее, мифологическому символизму, который и создал Кузнецов в современной русской поэзии.
Уместно привести как иллюстрацию его знаменитое стихотворение «Атомная сказка»:
Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.
Он пошёл в направленье полёта
По сребристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото,
За три моря от отчей избы.
– Пригодится на правое дело! –
Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.
В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака.
В этом тексте поэт развивает устоявшийся миф. Семантика образов неизменна, даже незыблема, никаких метафорических контекстов или переносов смысла, но при этом автор погружает миф о «Царевне – лягушке» в иные внешние обстоятельства. И миф задышал новой жизнью.
Подчеркну, Кузнецов в своих стихах никогда не выходил за пределы национального самосознания, но при этом мифические образы (сна, тени, камня, отчизны, стыда, ветки омелы…) обретали актуальное звучание, высвечивая новые оттенки смысла, углубляя подтекст.
Помнится, на одном из поэтических семинаров мы разбирали стихотворение, в котором была «обнаружена» черная птица в райском саду. Кузнецов сразу же возмутился: черный цвет в славянской мифологии выражает скорбь, но никак не радость. Априори черных птиц в раю не бывает.
Этот пример говорит, устоявшаяся форма мифа выражает его внутреннее содержание. Любое искажение мифического образа приведет к неверному его толкованию. О чем всегда так беспокоился Юрий Поликарпович.
Ключи к трактовке мифических образов Юрия Кузнецова необходимо искать в «Поэтических воззрениях славян на природу», русских народных сказках, песнях, преданиях, поговорках… Словом, владеть мифическим национальным сознанием.
Кузнецов часто говорил: «Когда матери перестанут петь своим детям колыбельные песни, это предвестие конца света». Иными словами, будет разрушен устоявшийся национальный миф, а это трагедия, «конец света». Но, как говорится, природа не терпит пустоты. Один миф уничтожается, тут же рождается другой, то есть, возникают совершенно иные смыслы, а вместе с ними и новые формы выражения. Но при этом меняется национальное самосознание, мы рискуем стать другим народом без русских сказок, песен, поговорок, преданий…
Кузнецов один из немногих русских стихотворцев, который развивал мировые поэтические образы. Например, ему была интересна мифология Данте. Но Юрий Поликарпович создал «свой» ад и рай, сознательно игнорируя «чистилище», ему нет места в мифологическом восприятии русской культуры. Некоторые критики упрекали поэта во вторичности разрабатываемой темы. Но это от недопонимания сущности творчества поэта. Это не вторичность, а развитие мирового мифа, но на основе национального самосознания.
Философ Алексей Лосев определил два типа доминирующего сознания современного человека: романтический и классический.
Так вот, в «метафорическом» символизме, как правило, стихийное сочетание слов или образов вызывает различные смысловые ассоциации, что создает ощущение оригинальности и новизны. И это вполне объяснимо. Поэты - символисты XIX века обладали романтическим сознанием. Это мироощущение нам как бы говорит: мир еще находится в становлении, он до конца не сформирован.
В мифическом символизме Кузнецова, напротив, нет ничего случайного в лепке образов. Они уже даны, созданы национальной культурой. У Юрия Кузнецова, вне всякого сомнения, классическое сознание: мир сотворен, каждая его часть подчинена целому.
Я плачу оттого,
Что изо всех твоих лучей
Не стало одного.
(Плач о самом себе)
И здесь мы подходим к главному. В русской философии Алексей Лосев детально разработал учение о символе. Поэзию Юрия Кузнецова следует рассматривать именно в контексте диалектики мифа выдающегося мыслителя.
По мнению Алексея Лосева, абсолютная мифология – есть символизм. Миф не фикция или выдумка. Это осязаемое и ясное выражение смысла. Миф имеет символическую природу. Евхаристия – выражение сущности христианства. Вино и хлеб – символы. Форма и содержание в символе нераздельны, тождественны; подлинное слияние идеи и материи. Так возникает чудо. Но этих тезисов, к сожалению, недостаточно, чтобы раскрыть сущность учения Алексея Лосева. Но мы сегодня и не ставим такой задачи. Важно обозначить подлинную природу, корни творчества Юрия Кузнецова, который говорил, что его поэзия – словесная икона…
Олег АЛЕШИН
