Название романа народного писателя Беларуси Ивана Мележа «Люди на болоте» – произведения, казалось бы, из ушедшего времени – послужило названием и книги московского литературоведа Любови Турбиной «Люди на болоте. Экология как доминанта белорусской литературы второй половины XX века». Что же подтолкнуло автора, ищущего существо сопричастности человека и природы, пытающегося понять, отразили ли это существо белорусские художники слова, остановиться на романе, который пришёл к читателю в начале далёких 1960-х годов (первая публикация относится к 1962 году)?
Хорошим ответом является уже открывающая книгу издательская аннотация: «Люди на болоте» – так называется роман Ивана Мележа; на наш взгляд, это самое значительное явление в белорусской литературе середины XX века; этот роман есть развёрнутое и художественно убедительное воплощение национальной идеи…»
Толкование самого понятия «болото» допускает как прямой, так и переносный, иносказательный смысл. Болотом называют любые проявления психологической половинчатости, нерешительности, двойственности в поступках… Существуют современные экологические представления, по которым болото определяется как некий субстрат, биологическая среда, благоприятная не только для проживания, но, главное, для зарождения жизни. Это о прямом, не переносном смысле понятия «болото». Белорусской литературе вообще присуща тенденция давать названия повестей и романов по экологическому признаку: «Пуща» Виктора Карамазова, «Лес» Кристины Лялько, «Двое в лесу» Михася Стрельцова, не говоря уже о «Дрыгве» (в переводе: «Трясина». – А.К.) Якуба Коласа и т.п. Конечно, лес, наряду с болотом, а также дрыгва, топь, трясина – вот ключевые представления белорусской культуры, отражённые в литературе. Через закодированные в этих понятиях смыслы белорусы обращаются к миру: «Не отрывайтесь от своей почвы, от традиций предков, даже на первый взгляд устарелых, архаичных, – от своей первичной сущности, от той животворной среды, из которой мы все появились, – и она поможет выстоять и победить».
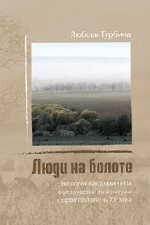
В книгу вошли следующие статьи Любови Турбиной: «Иван Мележ – роман «Люди на болоте» – экологический подход»; «Андрей Федоренко – «Пеля» – болотце возле дома»; «Анатоль Сыс – «Пан Лес» – реконструкция славянского мифа»; «Янка Брыль – «Птицы и гнёзда» – метафора диалога»; «Михась Стрельцов – Вёска в городе»; «Алесь Кожедуб – тост за Беларусь». Литературовед, литературный критик, публицист и, наверное, всё-таки ещё и писатель – пожалуй, автор сборника выступает в каждой из этих статей сразу во всех художественных профессиональных ипостасях. Любовь Турбина настойчиво, убедительно, используя рассматриваемые произведения, обращаясь к творчеству избранных писателей в целом, проводит свои главные мысли о том, что «природа чувств» сопряжена с жизнью настолько, что иногда материализованная жизнь лишает человека осмысления сиюминутности его бытия, как, впрочем, и осмысления вечного суда над нашей человеческой безвольностью, скорыми поступками и призрачными, не имеющими цены, словами. Вот и у Ивана Мележа критик видит, подчёркивает следующее: «.задето самое корневое, самое существенное в личности Василя – привязанность к земле, страсть землепашца; даже любовь Ганны соперничает, но не побеждает в его душе главную страсть. Под дулами бандитских обрезов Василь не знает чётко, за что ему рисковать жизнью, да и Грибок разозлил его недавно, покушаясь на святое для Василя чувство собственности. И нам не важно – хорошо это или плохо с точки зрения абстрактной справедливости, просто в душе каждого есть та самая болевая точка, у каждого – своя. Противоречивость образа Василя есть и во внешнем описании – это его разноцветные глаза: один карий, другой голубой. О чём, как не о противоречивости, сложности образа, это говорит? Так же сложен, противоречив, допускает возможность многократных, взаимоисключающих интерпретаций и весь роман Мележа (как и всякое подлинно высокохудожественное произведение!)».
Монографическим исследованием представляется статья «Андрей Федоренко – «Пеля» – болотце возле дома». Вот что пишет Любовь Турбина в самом её начале: «В начале девяностых в Белоруссии (и она упорно остаётся с «Белоруссией», хотя, наверное, душой, сердцем и готова поспорить за «Беларусь». – А.К.) оформилось объединение молодых писателей, ворвавшихся в белорусскую литературу на перестроечной волне, а точнее – на волне национального возрождения. Как обычно бывает, от молодой и задорной компании остались на слуху два-три имени, обративших внимание читающей публики постсоветского пространства, среди них на первом месте, бесспорно, надо назвать Андрея Федоренко, самого интересного и талантливого из появившихся тогда прозаиков. К этому времени уже автора нескольких книг повестей и рассказов, которому довелось представлять Белоруссию в европейском «Литературном экспрессе – 2000». И далее: «Затем на российском рынке в авторском переводе на русский язык появилась его повесть для юношества «Щербатый талер», по которой вскоре был снят многосерийный фильм, который до сих пор крутят по центральному телевидению в дни школьных каникул. Как и все лучшие книги золотого фонда детской и юношеской литературы, повесть А. Федоренко осуществлялась автором на границе занимательной интриги с историческими реалиями и сочетает, таким образом, приятное с полезным». Да, жаль, что А. Федоренко плохо знают в России. Как, впрочем, жаль, что и А. Сыса по большому счёту не знает российский читатель. Разве что есть некоторая известность в сопричастности с эпатажными поступками, за которыми мало кто приоткрывает лицо, судьбу большого поэта, замечательного и, на мой субъективный взгляд, просто гениального художника слова.
Особый интерес вызывает и статья-раздел о творчестве автора романа «Птицы и гнёзда» – «Янка Брыль в контексте мировой литературы – экология души». Много размышлений посвящая лирическим миниатюрам народного писателя Беларуси, Л. Турбина акцентирует внимание на сопричастности Янки Брыля к русской литературе, делится и своими личными наблюдениями: «Одним из самых близких по духу современником для Я. Брыля был К.Г. Паустовский – в присутствии автора этих строк в Королищевичах, в Доме творчества СП БССР, в 1964 году он называл его «лучшим из живущих» писателей. В журнале «Неман» № 2, 1997 г., есть горестная запись о том, как летом 1967 года его настигло известие о кончине Паустовского. Воспоминания и занимают в творчестве этих авторов системообразующее место – это подтверждают итоговые два тома «Повести о жизни» К. Паустовского и почти всё написанное Брылем после 60-х гг.».
Книга Л. Турбиной, «спрятавшаяся» в разговоре о белорусской литературе, о творчестве, судя по всему, любимых автором белорусских писателей за названием об «экологической доминанте», и есть выразительная, пусть себе и не очень широкомасштабная, попытка рассказать сегодня о белорусской литературе. О том, насколько зримо, ощущаемо соединены в ней классическое и современное художественное слово, насколько сопряжены в ней искусство и правда жизни. Как раз таких книг литературной критики, таких литературоведческих «обозрений» катастрофически сегодня не хватает. Несомненно, сборник Любови Турбиной «Люди на болоте. Экология как доминанта белорусской литературы второй половины XX века» следовало бы издать и в Беларуси. Тем более что тираж издания «У Никитских ворот», к великому сожалению, просто мизерный – 100 экземпляров. Но и за это, за то, что книга пришла к читателю, безусловно, стоит поблагодарить и автора, и московского издателя, и, конечно же, Федеральную национально-культурную автономию белорусов в России, оказавшую финансовую поддержку для выпуска книги.
Сергей Шичко

