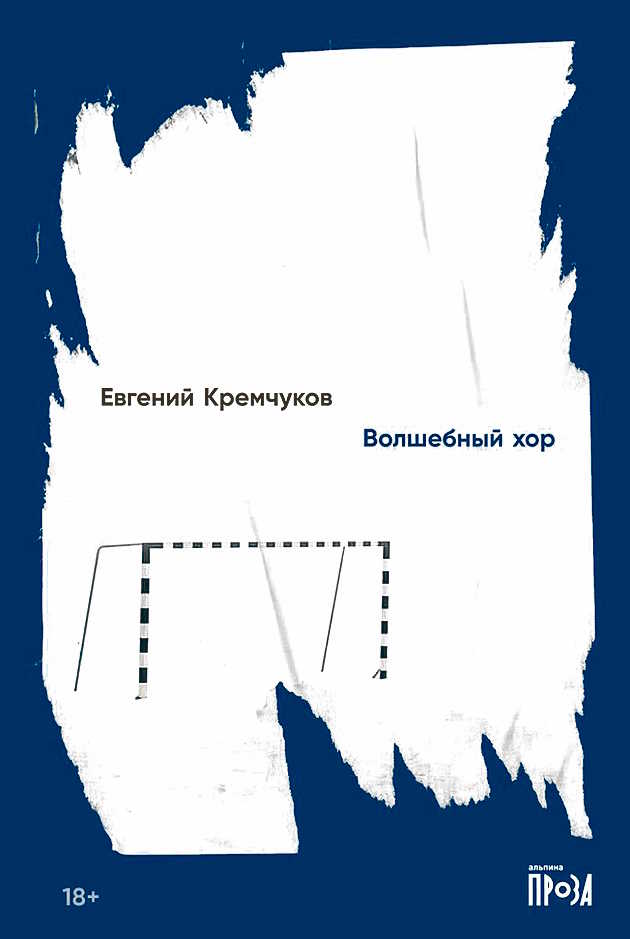
Евгений Кремчуков. Волшебный хор: роман. – М.: Альпина нон-фикшн, 2023. – 306 с. – 1500 экз.
Сюжет новой книги Евгения Кремчукова прост и, можно сказать, незамысловат. Путешествующему по Японии сотруднику областного управления культуры Дмитрию Баврину сообщают, что его школьный товарищ, учитель городской гимназии Михаил Протасов, попал в опасную ситуацию: того обвинили в домогательствах по отношению к старшеклассницам и арестовали. Возвратившись в город Энск (за которым отчётливо проглядывает Смоленск), чиновник пытается разобраться в деле и помочь давнему другу. В ходе разбирательств Баврин встречается со многими людьми, едет в монастырь, где подвизается теперь другой однокашник, и просит у него совета и участия.

История получает широкую огласку, муссируется в местной прессе, обсуждается в обществе. Пострадавшие от посягательств педагога, школьницы дают подробные показания. Участь Протасова становится всё более плачевной – в лучшем случае ему грозит отстранение от педагогической деятельности на длительный срок. Однако судьба его складывается трагически: в СИЗО он таинственным образом погибает, разбив голову о стену. Остаётся только гадать, сам он свёл счёты с жизнью или ему «помогли» представители пенитенциарных органов. А может, это было делом рук сокамерников – как известно, в уголовной среде не жалуют обвиняемых по подобным статьям. В любом случае смерть выглядит символично: человек умирает от того, что безуспешно бьётся головой о твердокаменную стену государственной системы.
Таков внешний ход событий. Однако в литературе богатство содержания не всегда является непременным условием для создания качественного произведения. Что уж такого значимого происходит в гоголевской «Шинели» или «Человеке в футляре» Чехова!
Чем же заполняется тогда триста страниц прозаического текста? Многочисленными размышлениями героя-исследователя, его копанием в собственном сознании, воспоминаниями о годах детства и отрочества. Но насколько значимы эти абстрактные рассуждения? Кажется, автора вовсе не заботит увлекательность его текста. Что ж, в культурной практике ХХ века мы не раз встречаемся с сочинениями, вникнуть в которые затруднительно. Вспомним громоздкие творения М. Пруста, Дж. Джойса, В. Вульф, У. Фолкнера. Особенно по этой части отличились австрийские классики: Ф. Кафка, Р. Музиль, Г. Брох. Из отечественной словесности можно привести пастернаковского «Доктора Живаго». Очевидно, с оглядкой на их опыт работает и Кремчуков.
С одной стороны, в таких условиях проза стремительно убывает в эссеизм и далее – в многословие, плетение словес, а массированное использование плеоназмов отнюдь не способствует читабельности текста, а наоборот – препятствует читательскому восприятию. С другой стороны, очевидно и даже похвально, что писатель намеренно старается уйти от лапидарной стилистики современных бестселлеров – стереотипов литературы, когда нередко невозможно отличить одного автора от другого.
Также вопрос в том, насколько удачным получился этот филологический эксперимент. Ведь применение такой писательской техники (письма, как выражались структуралисты Р. Барт и Ж. Деррида) нередко приводит к откровенным длиннотам, достигаемым с помощью тяжеловесных синтаксических конструкций, выполненных посредством предложений с соподчинением. Нет смысла цитировать образцы такого рода – газетный формат не позволяет, но любопытствующих отсылаю хотя бы к началу главы «Место, которого нет», которое открывается периодом, растянутым более чем на страницу. Даже искушённому читателю нелегко вынырнуть из такого заболоченного текста, состоящего из хора нестройных голосов.
Важно понять, что автор прибегает к этому приёму сознательно. Чувствуется, как ему приятно быть таким сложным, таким неоднозначным, противоречивым, как одна киногероиня. Ещё один нюанс: автор и его персонажи не прочь блеснуть эрудицией. Но в литературе важно не то, что прочитал герой, а как это сказалось на его характере. Щеголять начитанностью и хитроумной терминологией не самое лучшее свойство. Умный человек, наоборот, старается просто выражать глубокие смыслы. Мне доводилось слушать В. Катаева, Арс. Тарковского, Л. Гумилёва, Ж. Алфёрова, П. Палиевского, В. Кожинова. Интеллектуалы никогда не нагружали свою речь специальной лексикой.
Ближе к концу неожиданно появляется аргентинская тема (Марадона, Месси, Борхес). В свете результатов новейших выборов в этой стране она получает звучание памфлета.
В финале Протасов, имя которого заимствовано из толстовского «Живого трупа», превращается в настоящий труп. Только вот скорбеть по нему не очень-то хочется.
Роман вошёл в короткий список «Большой книги» – 2023
