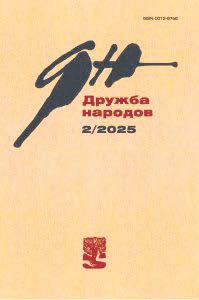
Иван Родионов
Мария Бушуева. Томский телеграфист: роман // Дружба народов. – 2025. – № 2. – С. 9–89.
Действие «Томского телеграфиста» почти целиком происходит в 1903–1905 годах в Томской губернии, которую настигают всполохи неспокойного начала двадцатого столетия: Русско-японская война, Кровавое воскресенье и, наконец, Первая русская революция. Исторических романов об этом периоде сейчас почти не пишут – кажется, этот жанр сегодня вообще в некотором упадке. Каких-то десять-двадцать лет назад трудно было представить короткий список любой престижной литературной премии без одной-двух объёмистых семейных саг на материале ХХ века – чаще всего двадцатых-тридцатых годов. В какой-то момент, видимо, произошёл «кризис перепроизводства» романов о нелёгкой судьбе очередного интеллигента во времена репрессий и пошёл откат – тема приелась. Симптоматичным здесь стал позапрошлый год, когда появилось несколько премиальных текстов, во-первых, охватывающих более ранний исторический период – Гражданскую войну и её преддверие, а во-вторых, пытавшихся эти события переиграть. Таковы и «Бронепароходы» Алексея Иванова, и «ОТМА» Алексея Колмогорова, и «В тени трона» Василия Зубакина. И вот перед нами текст о событиях ещё более ранних, когда неслыханные перемены и невиданные мятежи уже прогнозируемы, но пока ещё не наступили. Уже очевидна непримиримость противоборствующих сторон – тем не менее это эпоха, когда ещё были возможны сомнения и существовал по-настоящему личный выбор.
События «Томского телеграфиста», о чём прямо пишет автор, имеют под собой вполне реальную историческую основу, текст романа инкрустирован служебными полицейскими донесениями, лицо повествователя – третье, подчёркнуто отстранённое. Среди героев нет мерзавцев-злодеев, отношение рассказчика к ним – нейтральное, а порой кажется, что и вовсе доброжелательное или хотя бы сострадательное. Среда вокруг тяжёлая – народ страдает, власти хватают и не пущают. Но отчего же сквозь фигуры сибирских подпольщиков – людей разных, при этом несомненных идеалистов, бескорыстных и самоотверженных, будто проступает какой-то зловещий отблеск?
Во-первых, нынешнему читателю никуда не уйти от исторического контекста. Так, события вековой давности два раза разбиваются в романе современными вставками, и в первой из них звучит проговорка: Мишка, главный герой книги, впоследствии станет меньшевиком. Этот как бы спойлер натурально огорошивает: читатель сразу достраивает его дальнейшую судьбу – трагическую, конечно. И когда после оказывается, что Мишкина будущность сложилась более-менее счастливо, воспринимаешь это как чудо: так звучит и работает большая история. О судьбах большинства других героев нам не рассказывается, но на основе их речей и разногласий вполне выстраиваются и их будущие «идеологические платформы», по которым также можно спрогнозировать их потенциальные биографии. И даже конец каждого – по отдельности, – если снова не вмешается чудо.
Во-вторых, сами герои тоже постоянно проговариваются, и за их горячей искренностью нет-нет да и проявится дивная глухота борьбы за общее, слишком общее благо. И чем дальше, тем больше становится ясно: это именно что причинение добра. Приведём потрясающую реплику одного из героев:
«– А я сын политического, – сказал Лев. – Причём русского священника. Чёрт его дёрнул зачитать вместо проповеди прокламацию. Это я, идиот, листовку ему передал. Мать чуть с ума не сошла из-за его ареста… Мне светила по наследству духовная карьера, но я уклонился и поступил в Политехнический. А в Томске меня втянули в партию, особых усилий не потребовалось – захотелось мне самому чего-то возвышенного, какой-то захватывающей мозг и сердце высокой цели. А я втянул Гаева».
Здесь, как говорится, замечательно всё. И сетование на отца, которого сам Лев, прямо говоря, и подставил. И то, что он не слышит, что сам говорит: отца прочитать листовку на проповеди дернул чёрт; это я ему её передал. То есть даже по формальной речевой логике чёрт – это сам Лев. Наконец, в революцию все почему-то друг друга именно втягивают. Но втянуть во что-то хорошее нельзя даже семантически. И как бы ни шёл этот разговор дальше, речевой подтекст своё дело уже сделал.
Наконец, ещё одно. Если убрать из романа одного-единственного персонажа, перед нами была бы очевидная притча о том, как человек смягчается, остаётся на распутье – и сохраняет свою душу. Здесь пора упомянуть и о сюжете. В центре событий – сибирский кружок РСДРП, члены которого раздают прокламации, готовят «эксы», в том числе нападение на полицейский склад, дабы завладеть оружием. Словом, кипит революционная борьба. Один из членов этого кружка – юный телеграфист Мишка, человек искренний, талантливый и несколько, что называется, шебутной. По мере нарастания противоречий между властью и социал-демократами (общая политическая обстановка, аресты, наконец – расстрел демонстрации) Мишка ожидаемо ожесточается и едва не совершает террористический акт, сорвавшийся то ли по причине его ареста, то ли герой сам в последний момент передумывает. После оказывается, что он отойдёт от активной революционной деятельности: Мишка сумел остановиться.
Но есть в романе ещё один герой, благодаря которому текст превращается из достойного морально-назидательного в неоднозначный, противоречивый, тревожащий, очень непростой. И человек этот – маленький. Да-да, тот самый, знакомый нам по школьным учебникам.
Зовут его Алексей Александрович Диев, он отставной титулярный советник и железнодорожный служащий. Робкий, смирный, умеренно пьющий. Есть у Диева молодая супруга Шурочка, одержимая описанным Эдгаром По «бесом противоречия» (очень уж хочется сделать что-нибудь социально неодобряемое, неожиданное, а то и скандалёзное сущего озорства ради). А у Шурочки есть брат Мишка, тот самый телеграфист-подпольщик. Мишка передаёт Диеву листовки – кто может подумать на безобидного служащего? Тот, однако, напивается и по глупости попадает в околоток. И его даже отпускают: понятное дело, такой человек едва ли будет связан с революционерами. Однако с той поры в груди Диева неустанно зреет непонятное беспокойство. Он открывает для себя публицистику Толстого, и это окончательно переворачивает его жизнь. Он снова берётся за распространение запрещёнки (брошюры Толстого «Разве это так надо?») и закономерно попадается вновь. Заканчивается всё для Деева трагически и пронзительно, на высокой ноте и одновременно, как это и бывает с маленькими людьми, будто бы и пустяшно: в таких случаях говорят, что человек пропал ни за грош.
Виноват ли горьковский Лука в том, что Актёр вешается? Повинен ли человек, заронивший в сердце неподготовленного человека зёрна бунта, в его неизбежной гибели? Ответ русская литература пыталась дать не единожды, но вопрос всякий раз оказывался риторическим. Толстой, положим, точно не виноват. Но Мишка, тот самый обаятельный телеграфист, – виноват ли он? И вообще, стоит ли мировая гармония слезинки этого, по сути, взрослого ребёнка?
Ясно одно: увы, слабохарактерному, случайному, «отражательному по натуре», как говорит одна из героинь, и живущему подчёркнуто частной жизнью человеку в бурю и житейскую стынь едва ли получится отсидеться в сторонке – всё равно затянут в свои жестокие игры или одни, или другие. Так оплёвываемый всеми (в том числе иногда, к сожалению, и литературой) обыватель и мещанин обретает правоту жертвы, выше которой нет. И помнить о том, что ждёт каждого соблазнившего малых сих, стоит всякому радетелю за высшее благо. Как говорит один герой Чехова, «никто не знает настоящей правды». Герой, кстати, вовсе не героический и тоже в каком-то смысле маленький.
