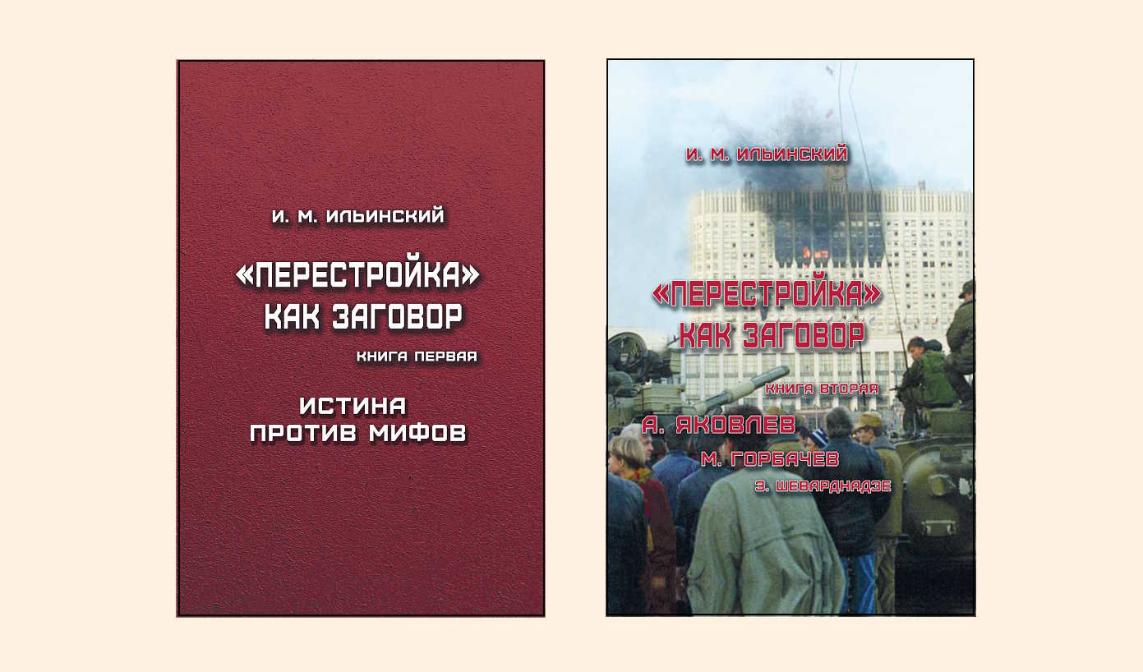Пётр Киричёк, доктор социологических наук, профессор Московского гуманитарного университета.
Ильинский И.М. «Перестройка» как заговор. Книга первая. Истина против мифов. Книга вторая. А. Яковлев, М. Горбачёв, Э. Шеварднадзе. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2024.
Предисловие
В истории любой страны случаются такие периоды, когда целая нация под воздействием различных, сошедшихся в одной реперной точке, обстоятельств – политических, экономических, культурных – забывает вдруг о своей державной самостийности и ментальной идентичности и сворачивает с торной дороги цивилизации на побочные блуждания по витальному бездорожью. Россия тоже не избежала этой горькой участи, когда в лице СССР неожиданно оказалась в конце 1980-х гг. в состоянии социальной турбулентности, вызванной неудачным стечением факторов и рисков внешней глобализации и внутренней модернизации. Тот аномальный период вошёл в историю страны под названием «перестройка», и это слово до недавнего времени одни, либералы, вслух произносили с восторженным придыханием, а другие, патриоты, – наоборот, с гневным осуждением.
Так получилось, что в публичной сфере общества перестройка явилась «лакомым куском», в первую очередь, для любителей скоротечных, ни к чему, не обязывающих диспутов идеологического толка, типа быстро вошедших в моду телевизионных ток-шоу, ведь всё содержание этого периода с лёгкой руки приверженцев всевозможных общественных катаклизмов, в том числе бархатного свойства, отнесли в круг понятия «большая история». А последнее нередко трактуется как средостение форс-мажорных фактов, событий, явлений, тенденций социального порядка, когда гремят войны, грядут перевороты, пылают восстания, грохочут революции, рушатся империи, в результате чего целый мир или часть его внезапно меняет привычный доселе вектор становления и развития, что и случилось с Россией в конце ХХ века.
Однако это большое заблуждение – делить историю на «большую» и «малую», ведь тихий её «крот», по выражению К. Маркса, незаметно и повседневно, без выходных и отпускных, «роет» почву общественной жизни и медленно, но верно подготавливает социальные перемены, порой самые крутые, в корне меняющие лик человеческого бытия. В этой связи особой ценностью обладают выходящие в свет исторические труды, в которых диалектическая сумма добытых в поте лица первопричинных смыслофактов является гораздо более ценным конечным продуктом, чем дотошный разбор громких многообещающих программ, которые произносят спорадически взбирающиеся на танки или броневики харизматические лидеры, поднаторевшие в крикливых обращениях к народу. В конце концов, и эти западающие в массовой памяти политические «протуберанцы» являются результатами созревших на глубине общественной жизни тенденций.
Как бы то ни было, время эмоциональных разноречивых тирад по адресу перестройки к настоящему времени прошло, настало время научных о ней воззрений, иными словами: фундаментального метадискурса о её сущности, причинах и следствиях, столь решительно и противоречиво повлиявших на незыблемые, казалось, устои Русского мира. Весьма громкую и примечательную – по контенту и формату – заявку на лидерство в этом дискурсе сделал хорошо известный в учёном мире профессор, доктор философских наук И.М. Ильинский, создавший вместе с выдающимися мыслителями современности Н.Н. Моисеевым и А.А. Зиновьевым Русский интеллектуальный клуб и возродивший с командой единомышленников из пореформенных руин отечественного образования, оставшихся после перестройки, новый Институт молодёжи, ставший со временем Московским гуманитарным университетом, лучшим в стране негосударственным вузом, которым автор книги руководил в качестве ректора целых тридцать лет.
Научный маркер предметного исследования
Недавно вышедшая в свет двухтомная книга Игоря Михайловича Ильинского «Перестройка» как заговор» даёт ещё один веский повод удивляться профессиональной универсальности её автора: в исследованиях о молодёжной сфере он показал себя оригинальным философом, в изысканиях о системе образования – основательным социологом, в изобличениях различных мифов о родной стране – умелым полемистом и тонким психологом. Правду говорят, что если человек талантлив, то он талантлив во всём. Теперь настал черёд автору повернуться к миру ещё одной, не менее интересной, стороной – проявить навыки первостатейного историка. Человек-оркестр, как называют таких людей, прямо заявляет о ключевой роли исторического подхода в гуманитарной науке: «Чтобы понять предмет исследования, надо подойти к нему исторически. Это неоспоримый принцип научной методологии: время неделимо, три его модуса «прошлое», «настоящее», «будущее» – условности; прошлое в той или иной мере присутствует в настоящем» (Ильинский, 2024: 33).
Сверхсложный замысел книги в ходе его реализации потребовал от автора всей синкретической суммы названных качеств с довложением ещё одного, связанного с манерой изложения – публицистического стиля, страстного и убедительного, точного и образного, на первый взгляд, не соответствующего «монашескому» жанру исторической литературы, который, как правило, не допускает в завышенных дозах пристрастной полемики, исключает сколь-нибудь заметные авторские симпатии и антипатии и предпочитает заниматься нейтрально-аналитическим разбором реально зафиксированных в массовом сознании фактов, событий, явлений, тенденций. Но в нашем случае не замечается никакого противоречия: полифония контента закономерно требует полифонии формата – тщательно подобранный в книге обширный исторический материал, идеологемный и фактурный, несмотря на всю его интеллектуальную сложность, подаётся с подкупающе простой логикой изложения, где ювелирно выраженная семантика работает в унисон с образной стилистикой. Писать не только умно, но и красиво – это в традициях русской исторической летописи со времён Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. Соловьёва и их продолжателей Е.В. Тарле, И.Я. Фроянова, Е.Ю. Спицына.
Конечно, о перестройке за сорок лет с её начала написали много, причём разные люди и с разных позиций, как со стороны апологетики, так и антагонистики, но в основном популистского и мемуарного характера, с неизбежными заклинаниями, обвинениями и оправданиями. Однако лично-прикладной характер отражения происходящего в действительности не подходит для исторической летописи целиком: «История – не ремесло часовщика или краснодеревщика, – предупреждал М. Блок. – Она – стремление к лучшему пониманию, следовательно – нечто, пребывающее в движении» (Блок, 1986: 11). Чего не достаёт до сих пор разношёрстному потоку сведений и мнений о перестройке, так это общего научно-исследовательского знаменателя, релевантного сущности и деталям происшедшего в стране в 1980-е гг. с погружением в его исторические и прочие предыстоки.
На этом фоне настоящим откровением выглядит монография И.М. Ильинского, которая придаёт этому дискурсу высокий научный маркер: она не только зрит в корень – концептуально объясняет произошедшую трагедию великой державы и её народа с точки зрения всеобъемлющего заговора, осуществлённого скоординированным ударом внешних и внутренних врагов Отечества. Помимо этого, она предоставляет всем гражданам своеобразный объёмный путеводитель в области знаний о перестройке, предназначенных для массового усвоения – и степенному в словах и поступках седовласому пенсионеру, и уверенному в себе и своём отношении к происходящему вокруг него средневозрастному гражданину, и, особенно, вступающему в самостоятельную жизнь порывистому в настроении и поведении молодому человеку ХХI века.
Безусловно, в этой книге «крупный» блок знаний присутствует, путеводитель – тоже, но есть здесь и нечто большее: интеллектуальные авторские изыски, придающие изложенному материалу научно-светский шарм, а главное – побуждающие и любителя истории, и её специалиста к плодотворной рефлексии на освещённые в монографии темы и сюжеты из недавнего прошлого великой страны, где героическое и конструктивное начала постоянно сопровождались трагическим и деструктивным аналогами. При этом автор мастерски, с плавной незаметностью переводит выданное в синтезе знание для элиты – «глыбы» научных парадигм в знание для масс – «кристаллы» интеллектуальных прописей: «Как любой человек, так и любое общество – хоть капиталистическое, хоть социалистическое, – может «заболеть», в критическом состоянии могут оказаться как его отдельные части (подсистемы), так и Система в целом… Экономический кризис – ещё не смерть, этот кризис излечим. Нужны всего-то правильный «диагноз», правильные «лекарства» и правильное «лечение» (Ильинский, 2024: 101).
Разумеется, лучшего когнитивного эффекта, когда книга с авторским обнажённым строем души и «наступательным» вербально-эмоциональным стилем понуждает к конструктивному размышлению – оглянуться в прошлое, оценить настоящее, посмотреть в будущее, а в итоге побуждает к разумному действию, назвать невозможно. И достигается означенный эффект многими качественными слагаемыми этой монографии, которые позволяют поставить её в самый первый ряд достижений современной гуманитарной науки, отмеченных, как раньше говорили, знаком качества, а её автору, по нашему мнению, вполне можно претендовать с ней (в том числе, по совокупности прежних научных трудов) на обретение ранга члена-корреспондента высшего академического сообщества страны.
В первую очередь, книга являет научному миру фундаментальность теоретических посылок: с полным основанием – онтологическим, гносеологическим, аксиологическим – автор определяет феномен перестройки как длившийся несколько десятков лет политический заговор против целой страны, а именно России в лице СССР, лишь достигший кульминации и получивший развязку в 1991 году: «Перестройка изначально, начиная с мартовского и апрельского пленумов ЦК КПСС 1985 года, а по логике вещей – гораздо раньше строилась как заговор с целью уничтожения СССР» (Ильинский, 2024: 15). Сказанное автором о спорадически случающемся девиантном виде человеческой практики, который обладает системно-структурной специфичностью и целеполагающей функциональностью, становится понятным не в линейно-плоскостном, а в стереометрическом измерении, способном уместить и растолковать все – даже мельчайшие – нюансы исследуемого исторического предмета.
Новые концепты в теории заговора
Главное ноу-хау этой книги: в отличие от огульно-высокомерной трактовки подхода к нетрадиционному историческому явлению как системно-планомерному заговору, типа «это худосочная доморощенная фантастика», И.М. Ильинский убедительно показывает адекватный и правомерный характер такой постановки вопроса. Известно, что в сегодняшней политологии обычно доминирует следующая дефиниция, которая по всем признакам уже не отвечает современным реалиям, так как во многом не учитывает субъектно-объектной специфики происшедших в общественной жизни перемен: «Заговор политический – тайное соглашение (уговор, сговор) нескольких лиц, выступающих индивидуально или в качестве лидеров политических сил о совместных действиях против кого-либо или, реже, чего-либо для достижения определённых политических целей. Заговор – особая разновидность интриги политической, отличающаяся максимально возможной конспиративностью и негативной, деструктивной, а не созидательной направленностью» (Политология, 1993: 109).
Автор книги ставит, а потом решает вопрос о заговоре и шире, и глубже. Камерный характер известных в российской истории заговоров обычно ограничивался локальной «атакой» на одно верховное лицо: или ликвидацией его самого либо в лестничной башне мужского монастыря, как Андрея Боголюбского, либо в царёвой спальне питерского Михайловского замка, как Павла I, либо в столовой императорского Ропшинского дворца, как Петра III, или его принуждением к отречению от власти в салон-вагоне у Псковского вокзала, как Николая II. Но взятый в научную разработку перестроечный заговор в СССР был совсем иного рода: как гибридное порождение внешней глобализации и внутренней модернизации, он был тотален и многослоен, ибо поворачивался своим остриём против целой страны, её общественного строя, ментального уклада её народа, а верховодили подготовкой и реализацией основательно эшелонированного заговора первые лица советского государства, окончившие свой верховно-властный путь политическим самоубийством.
В этом случае мировая история выдала на-гора своеобразное открытие: в одной связке оказались иноземный агрессивный глобализм и доморощенный сервильный коллаборационизм, вызвавшие, подобно водородному синтезу дейтерия и трития, на территории страны социальный взрыв огромной силы. Столь масштабного заговорщицкого прецедента в противоречивой жизнедеятельности человеческой цивилизации, где изначально ставка делалась на предательство в высшем эшелоне власти и тем самым приговаривалась к уничтожению сверхмощная держава, ещё не случалось: «Советская (русская) контрреволюция произошла в конкретно-исторической форме именно предательства, – резюмировал А.А. Зиновьев, – предательства, навязанного врагами извне, организованного правящей и идеологической элитой страны, поддержанной социально активной частью населения и без боя капитулировавшей прочей массой пассивного населения» (Зиновьев, 2005: 165).
Определяющим фактором перестройки как заговора стала подмеченная автором устойчивая в ХХ веке тенденция максимизации субъективного фактора социальных метаморфоз с изменением традиционной диспозиции «ведущий – ведомый» в динамике общественного развития. Непререкаемо главенствующее прежде в повседневной жизнедеятельности общества, объективное начало социальной формы движения материи во внешней и внутренней ситуациях, сложившихся к тому времени вокруг Советской страны, отошло на задний план: «Решающее значение в уничтожении СССР имел субъективный фактор в широком смысле, и прежде всего заговор трёх «субъектов» в верхушке ЦК КПСС. Убеждён, если бы не заговор, социалистический строй в СССР преодолел бы, как определял положение дел в стране в начале 1980-х гг. Горбачёв в докладе «Октябрь и перестройка» (2 июня 1987 г.) «по существу предкризисную ситуацию». Даже не «кризис», а «пред»… Кризис ещё не крах, а вызов, угроза. И только…» (Ильинский, 2024: 16).
Ничего не поделаешь, версия автора опирается на столь веское собрание идей, фактов, аргументов, что, увы, приходится вносить существенную поправку в концептуальный арсенал исторического материализма: не только массы, но и индивиды могут творить события и явления, как добрые, так и злые, чему способствуют возросшие технологические возможности активных малых групп влиять на сознание и поведение широких слоёв населения. Носят эти деяния штучный характер, но при условии злого умысла своей мишенью они выбирают реперные точки общественного устройства. Как известно, для того чтобы обрушить целиком большой мост, достаточно подложить совсем не великий взрывной заряд в ключевое сплетение опоры и крыши этого сооружения.
Подобную «подрывную» работу ведут сначала скрытно, а затем всё более открыто созревшие внутри социума узкие группы людей, вроде той трёхглавой гидры-элиты (Горбачёв – Яковлев – Шеварднадзе), организовавшей верховный заговор, замешанный на предательстве, доведённый до «успешного» конца и принёсший неисчислимые беды стране и её народу, на устранение которых ещё уйдёт не один десяток лет: «Опыт России показывает, – утверждал А.С. Панарин, – ни один противник не может принести столько вреда собственной стране, как её властные элиты, испытывающие к ней страх и ненависть. Целенаправленная эксплуатация этих фобий – главная находка нашего противника в «холодной войне» и главная причина российских катастроф» (Панарин, 2006: 253).
Действительно, в основном по вине переродившейся властной группировки в новый период вселенского разлома, наметившегося в конце 1980-х – начале 1990-х гг., до той поры считавшаяся для Запада неприступной крепостью Россия (в советской модификации) не выдержала тотального – экономического, политического и, особенно, социокультурного – удара, согласованного по месту и времени чужими и своими элитами извне и изнутри страны. Сложившаяся ситуация получилась с позиций военно-исторической логики совсем абсурдной: на командных пунктах и в штабах союзной армии, сражавшейся на фронтах холодной войны, действовали облечённые высшими полномочиями предатели, которые сделали, ловко подыграв противнику, всё возможное и даже невозможное, чтобы она потерпела сокрушительное поражение: «Завершающий этап разрушения СССР, – отмечал А.А. Сазонов, – был осуществлён объединенными усилиями зарубежных политиков, спецслужб и внутренними «агентами влияния» в самом СССР, так называемой пятой колонны» (Сазонов, 2010: 8).
Реверс идеократии в механике эволюции
Сорок лет спустя отчётливо видится, что негативным контрапунктом перестроечной деятельности верховной троицы супер-предателей ХХ века и мобилизованных ими сторонников явилась тотальная идеологическая и нравственно-психологическая обработка граждан страны «прелестями» западного общества потребления и евро-американского образа жизни. С этой целью в духовно-практическую подсистему социального воспроизводства сделали «сверху» разрушительную инъекцию – включили в работу образовательно-воспитательные механизмы перелицовки россиян в англосаксов, в лучшем случае: из граждан страны в демократических «общечеловеков» без роду и племени. В итоге, пришедшие в повседневную жизнь чужеземные масскультурные стереотипы подменяли национальные духовные традиции, а заёмная протестантская мораль вступала в конфликт с доморощенной православной нравственностью.
По мнению И.М. Ильинского, убедительно обоснованному приведёнными в тексте суждениями и оценками, фактами и цифрами, заговорщики от перестройки в ходе реализации своего «чёрного» замысла постольку-поскольку занимались главными делами руководителей государства – текущими проблемами труда, быта, досуга своих граждан. Больше всего они беспокоились о состоянии сознания и настроения широких масс населения, которое стали называть вошедшим в моду термином «электорат»: «Задача была не из простых: тотальное уничтожение прошлого на символическом уровне, полномасштабный сброс исторической памяти, резкий разрыв всех преемственных связей с советским строем, «старым миром» ради построения «нового мира». Народ надо было довести до массового психоза, когда прошлого уже нет, будущего ещё нет, а настоящее («здесь и сейчас») надобно непременно и как можно скорее изжить со света. Без обмана и массового одурачивания людей заговорщики не могли достичь поставленных целей, но имели реальный шанс потерять свои головы» (Ильинский, 2024: 20-21).
К сему прилагается другой наставительный урок истории, о котором напоминает автор книги: в любых поражениях всей нации как на внутренней, так и на внешней аренах виновником является не только элита (власть), но и масса (народ). Эта истина в очередной раз подтвердилась сложившейся в России в конце ХХ века ситуацией: управляющая элита и пошедшая за её либеральными лозунгами управляемая масса (за редким исключением) отвергли по жизни основы коммунитаризма в пользу аналогов индивидуализма. Вместе они пошли на повторение, казалось, пройденного – кардинальным путём реанимировали в иных конкретно-исторических условиях губительный процесс капиталистического строительства – реанимации архаического производственно-экономического базиса и адекватной политико-идеологической надстройки. И тем самым стимулировали массовый исход затуманенных тотальной ложью граждан из коммунитаризма в либерализм для удовлетворения материальных и духовных потребностей, в первую очередь, отдельно взятой личности, не зависимой от общества и, тем более, от государства, что и привело к быстрому крушению великой державы и уникальной людской мегаобщности.
Увы, в идейном сопровождении перестройки как заговора активно участвовали рекрутированные в состав «пятой колонны» многочисленные персоны, претендовавшие на значимую роль публичных лидеров. Это были, во-первых, журналисты, публично уничтожавшие в общественном мнении авторитет правившей Компартии («орден меченосцев») и имидж государства («совковая постройка»), хотя содержались они на средства из партийной кассы и госбюджета (тоже беспрецедентный образец предательства – воевать против своего учредителя на получаемые от него же деньги на своё содержание!). Во-вторых, учёные, на все лады превозносившие европейский образ жизни и всячески унижавшие советский аналог, – историки, философы, социологи, психологи, экономисты, культурологи и прочие сервильные деятели отечественной науки.
Что касается историков, то представители этой гуманитарной когорты, выполнявшие спецзаказы либеральной власти (вроде сочинения фальшивок о катынской трагедии) вообще превратили свой предмет в лжесвидетельствующую мифологию, перевравшую всё на свете из истории России: тут и её «процветание» в царские времена, и почти «победа» в Русско-японской войне, и близкий «разгром» немцев в Первой мировой войне, и «гуманность» белогвардейцев, но «жестокость» красноармейцев в Гражданской войне, и индустриализация за счёт рабского труда заключённых, и коллективизация с «уничтожением» лучшего слоя крестьянства, и победа в Великой Отечественной войне ценой «горы трупов» и героизма штрафников, и прочие антиисторические бредни…
Давний борец с вредной мифологией, И.И. Ильинский мастерски опровергает неолиберальные алогичные перевёртыши, преследующие неблаговидную цель – выдавать факты от золушки за истину от королевы для того, чтобы у доверчивой массы людей, жаждущих правды, порядка и справедливости, повернуть мозги набекрень. Нет, историческая наука не может быть такой, какой она была в годы перестройки и в последующий период реформ: её рабочий конвейер, неустанно просеивающий «комья» жизни сквозь предметное «сито» выбранной методологии, должен готовить качественный «строительный материал», идущий на прочный фундамент для постройки человеческого общежития с гармонизированными интересами его обитателей. В противном случае это здание, в силу допущенных лженаучных просчётов, рано или поздно если и не развалится, то разойдется глубокими трещинами, обещая его хозяевам постоянный житейский дискомфорт, а то и страх за собственную жизнь…
Помнится, как в пореформенное время публичные витии-либералы – политики, журналисты и прочие, рядившиеся в тогу интеллектуалов, люди – дрожащими от сладострастного мазохизма голосами, радуясь притянутой за уши литературной аналогии, по Ф.М. Достоевскому, именовали пришедших к власти в 1917 году большевиков «бесами». И одурманенный тотальной либеральной пропагандой народ в своём большинстве совсем забыл о том, как много для него сделали эти «бесы»: с разрухой в стране справились, её территорию электрическим светом залили, заводов и фабрик, школ и вузов, больниц и санаториев, поликлиник и жилых домов понастроили, поезда и самолёты пустили, равенство и братство установили, две страшные войны выиграли, в космос героев отправили.
Что ж, выражаясь жаргонным языком, «ответка» напрашивается сама собой, иначе нарушается закон социального равновесия. Истины рады и любопытства для ведущим специалистам в области политической психологии предстоит в ближайшем времени выяснить, почему в предкризисный и кризисный периоды жизни нашей страны во главе её оказались литературно аналогичные, по Н.В. Гоголю, «мёртвые души»: Манилов, Ноздрёв, Собакевич, Чичиков, Плюшкин в лице Горбачёва, Ельцина, Черномырдина, Чубайса, Гайдара с обширной компанией властвующих либерастов, пустившие в разор почти всё большое, нужное и полезное, сделанное их предшественниками у государственного руля управления…
Послесловие
Как всегда, каждый, весьма заметный по контенту и формату, научный труд гуманитарного толка всегда порождает вопросы, в том числе, по народному выражению, «на засыпку», чтобы и дальше не дремала авторская и читательская мысль. Например, как же быть с либеральной теорией социального развития, которую четверть века пытались в нашей стране внедрить на практике и в адрес которой автор посылает так много критических стрел?! Ответ простой: пусть она живёт и здравствует на Западе, в Европе и Северной Америке, а на Востоке, в России и Китае, ей делать нечего. От её «посадки» на евразийскую почву вырастают самые настоящие уродцы. В общем, в книге нет никакой, даже небольшой дани уже отходящей в Российском обществе демократической интеллектуальной моде атлантического покроя, которую под административным прессом ельцинизма до недавнего времени буквально насаждали «сверху» в политике, экономике, культуре, науке и образовании.
Наоборот, в пику иноземному либеральному фундаментализму в книге то и дело позиционируется сложившийся в родных палестинах евразийский коммунитаризм, нашедший первоисток в марксовой теории социального развития. Конечно, в идеале для бытия и сознания людской мегаобщности будет лучше во всех отношениях, если выверенная наукой теория социального развития в оптимальном варианте опережает общественную практику, не забывая при этом постоянно с ней сверяться, дабы не попадать временами в идеократические затмения. В этом случае исчезают реальные риски как забегания вперёд (риск для самосохранения общества), так и отставания назад (риск для его развития). Если бы порядок был обратным, то каждое следующее поколение начинало бы сызнова добывать огонь и каждый раз вручать очередному земному «прометею» нобелевскую премию за изобретательский подвиг социально-управленческого предназначения…
Тем не менее, пока сегодняшняя цивилизация труда по ходу человеческой эволюции не обратится в завтрашнюю цивилизацию свободного времени, социальная практика так и будет следовать за профильной теорией лишь в той мере, в какой последняя отвечает запросам первой. И одно дело – оставаться для специалистов видным теоретиком, подобно основоположнику привлекательной концепции «нового мышления» австрийцу К. Гюнцлю (и его горячему поклоннику М. Горбачёву), в сфере чистой мысли для избранных интеллектуалов, единственно способных оценить её высокий полёт, пригодный только для игры в интеллектуальный пинг-понг на светских «круглых столах» с участием избранных (беловоротничковых) граждан людской мегаобщности.
Но совсем другое дело – великой теорией, научно обосновавшей реальные предпосылки к созданию общества социальной справедливости, что успешно сделано К. Марксом и Ф. Энгельсом, породить не менее великую практику, увлёкшую за собой в ХХ веке едва ли не половину населения земного шара, в том числе уникальный Русский суперэтнос, выбравший сто с лишним лет назад социалистический образ жизни. И по всей вероятности России, после тридцатилетнего блуждания по обочинам мировой цивилизации, не избежать повторения прежнего коммунитарного жизнеустройства социально-справедливого толка, если судить по негативным итогам проведённого в стране неолиберального эксперимента, старт которому дала перестройка как заговор…
Список литературы
Блок, М. (1986) Апология истории, или ремесло историка. М. : Изд-во «Наука». 256 с.
Зиновьев, А. А. (2005) Распутье. М. : Элефант. 320 с.
Ильинский, И. М. (2024) «Перестройка» как заговор. Книга первая. Истина против мифов. «Перестройка» как заговор. Книга вторая. А. Яковлев, М. Горбачёв, Э. Шеварднадзе. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та. 312 с. 504 с.
Панарин, А. С. (2006) Народ без элиты. М. : Изд-во Алгоритм; Изд-во Эксмо. 352 с.
Политология: Энциклопедический словарь (1993). М. : Изд-во Моск. коммерч. ун-та. 431 с.
Сазонов, А. А. (2010) Кто и как уничтожал СССР?: архивные документы. М. : ИСПИ РАН. 562 с.