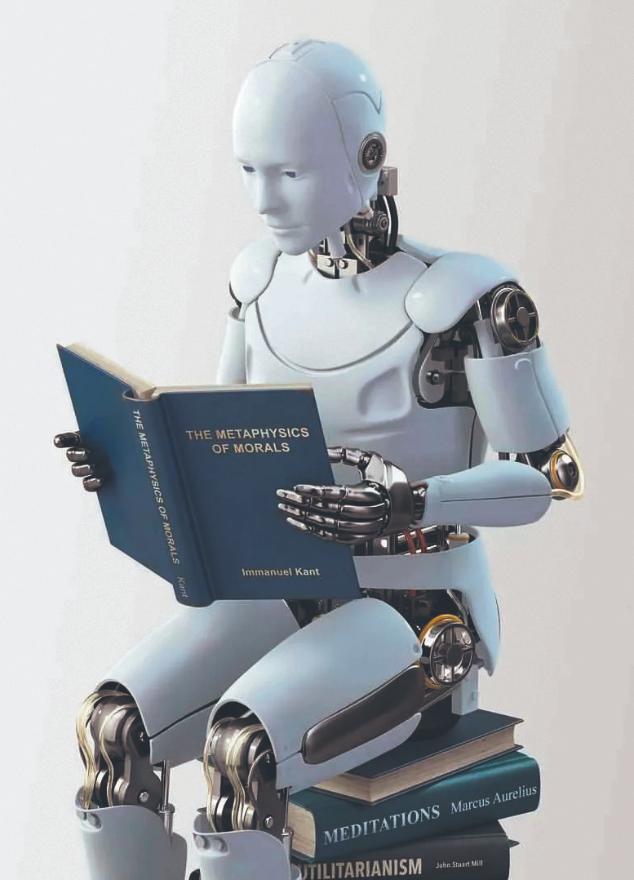
Сергей Морейно
Высокое искусство
«Бела ночь белым-бела ночь», – словами Яана Каплинского я начну эту краткую исповедь на допросе: сам спрашиваю, сам отвечаю; вопросы долой. Я думаю, мне было лет тринадцать, когда я нашел в квартире книжку Чуковского «Высокое искусство», изданную в год моего рождения. Книжку необычную. Основными тремя темами в ней были – переводческие ляпы, мастерство Самуила Маршака и русские переводы Тараса Шевченко. Сегодня я определяю этот труд Корнея Ивановича как крутой. Во-первых, шестиклассник мог из нее если не понять, то почувствовать, что ляпы – не главный недостаток (и не всегда недостаток) перевода. Во-вторых, я влюбился в технику Маршака – как в те годы можно было влюбиться в полет армейца Харламова или пластику тбилисского динамовца Гуцаева. В-третьих, глава о Шевченко ввергла меня в когнитивный диссонанс (чего я, разумеется, не знал): мне не понравились ни переводы, ни оригинал (в той мере, в какой я им проникся), но главу я прочитывал снова и снова. Теперь в обратной перспективе. Думаю, Бродский, как поэт условно более высокого класса, имел право называть стихи Шевченко «брехней Тараса», это его заявление я рассматриваю вне политического контекста. Однако сама по себе украинская поэзия до сих пор непереводима – а то, что переводимо, высокой поэзией чаще всего не является. Далее, я уверен: Маршак – главный переводчик сонетов Шекспира на русский, а детская закалка помогла при чтении пасквилей Михаила Гаспарова смириться с тем, что в академической семье не без… Наконец, книга пленила меня показом «неконечности» искусства перевода – в отличие от игры в шахматы, к которой меня пытались приохотить отец и дядя. Сейчас я сформулирую так: мне открылось, что есть жесткие и мягкие методы дегустации перевода: аналитический (на уровне фраз, слов, слогов) и алгебраический (геометрия, инварианты, посылы); тогда же я просто испытывал кайф, подобный кайфу решения задач из журнала «Квант».
Так я встал на путь, на котором люди делаются переводчиками.
Корнелий, придворный
Переводятся не столько слова, сколько их роли. В 2018 году на Международном Конгрессе переводчиков в Москве Виктор Сонькин, один из активистов преподавания искусства художественного перевода в России, делал доклад «Формальное стихосложение: российский и западный опыт перевода цитат». Слушая его, я был поражен действительно формальным подходом – докладчик фактически не упоминал, что же именно он переводит, переводя цитату (эпиграф, вставку, «мораль»). А ведь цитата, как всякий маркированный текст, способна играть целый спектр ролей. Открывать, закрывать, соединять и разъединять структурные единицы текста. В романе поляка Щепана Твардоха «Морфий» маркирована немецкая речь героя, у нее как минимум пять ролей: ребенок, говорящий с отцом; взрослый, говорящий с отцом; взрослый, говорящий с матерью; поляк в штатском, изображающий немца; поляк в форме фельдгестапо, изображающий немца. (Немецкий переводчик Олаф Кюль, как следовало из его реплики на Всемирном конгрессе переводчиков польской литературы в Кракове в 2022 году, заведомо игнорировал эти роли, ссылаясь на сложности перевода с немецкого на немецкий. Но и русский переводчик явно пренебрегал сценическими образами цитат.) В принципе, цитата – это особая авторская реплика. Инструмент текстовой машинерии, она переводит стрелку на пути нарратива – или стопорит ее подобно реплике Корнелия:
In that, and all things, will we show our duty.
«Циклична, как морская волна, как полнолуние/ Как вой пса/ Жизнь, заключенная в этой фразе», – в этой связи польский поэт Войцех Пестка. Во времена Шекспира женские роли играли мужчины. В театре кабуки рабочие сцены одеты в черное и считаются невидимыми. Оперный Онегин может серьезно уступать Татьяне в объеме. Цитаты порой трансформируются сильнее других частей текста.
В каморке папы Карло
Для перевода отдельных вещей я использовал нечто похожее на трансовые техники. Подкорка буксует, анализ бесплоден. Можно тупо ждать. А еще помогает истерический сон наяву. Просто сон ничего не гарантирует. Погрузиться в контекст, утонуть в нем… миф о контекстуальных ваннах как панацее сродни мифу, приводящему людей с беглым языком (синхронных и консекутивных переводчиков) в литературный перевод. Оба заблуждения «не учитывают» наличия глубинных связей, кротовьих ходов и мерцающего внутреннего света. Переводчица Б. хвалилась, что за три дня облазила весь город Б. (70 тыс. населения) в целях лучшего понимания своего а-а. И что она нашла – собор Св. Матери, кирху Св. Отчима? Не Кремль же инспирировал книги москвичей! Чтобы взять воздушно-капельный след, нужна мягкая система маячков, черные лестницы, фонарные столбы, Litfaßsäulen, недели и месяцы… либо солнечный удар, по башке ломом.
Делая книжку Бобровского1, я страшно опаздывал, но всё искал мастер-ключ. Я начал составлять «Хронику», подбирая такие события, в которых он участвовал, пускай окольно, или о которых хотя бы мог знать. Получалась острая привязка к автору – иголка в куколку вуду (наверное, где-то в недрах даркнета уже практикуется вики-voodoo). Сейчас сработает едва ли: писатели читают ленту новостей, большей частью оставляющую их безразличными. Но он? Прибыв в Латгалию, слышал ли об операциях по уничтожению белорусских деревень, Schneehase и Winterzauber? Сидя за столом в Union Verlag, видел ли из окна Западную оккупационную зону? Знал о стрельбе по перебежчикам? А о расстрелах в Новочеркасске, откуда в сорок восьмом, проходя «денацификацию», писал в Бранденбург жене Иоганне: «Мне кажется, со стихами впервые что-то случилось именно здесь»?
Недели три я не переводил, голова раскалывалась с самого утра – я вместе с ним сдаюсь в плен в Курляндии, нас везут в Восточный Донбасс, но не это важно, главное, что вокруг: я пробую возобновить переписку с Иной Зайдель (в Калининграде в это мое время снимают памятные доски Агнес Мигель), я публикую в Берлине «Прусскую элегию», в Штутгарте, по причине злоупотребления словом Volk, «народ», забаненную (меня обносят Берлинской стеной), я основываю «Новый кружок поэтов Фридрихсхагена» (Хрущев убирает с Кубы ракеты)…
Довлатов и Северянин
Срочная защита проекта – показ черновика – снятие установки на гладкость, этого «русского проклятия» – 100 строк в день; транс действенен, если сняты ограничения (нечего терять) плюс стресс (страшно потерять). Раскрепостить и ударить. На занятиях нужно показать студентам транс, но всю работу делать в трансе нельзя. Я, похоже, именно тогда зацепил его, затем подоспела фортуна. Люди и вещи подсказывали решения. А «впервые что-то случилось» на первой строке стихотворения Gedenkblatt:
Jahre,/ Spinnenfäden,/ die großen Spinnen, Jahre –
Прежние переводы закономерно стартовали словом «годы», но моему воспаленному мозгу «годы» казались расслабленными, не способными отчекрыжить жизнь от смерти. Русский именительный вял и неактивен: именует, но не винит и не винится. Так что:
Тех лет/ паучьи нити,/ жирные пауки, тех лет –
На семинаре Scaena Interpretationis мы хотели перевести фрагмент «Зоны» Сергея Довлатова, точнее, куплет блатной песенки из этого фрагмента. Обезумевший от страха надзиратель загоняет зеков в ледяную реку и держит их там под автоматом минут сорок. В конце концов колонна запевает известный блатной шансон, после чего из первой шеренги выходит некий рецидивист, «герой зоны», и отводит рукой дуло. Такой нереальный жест в пространстве текста возможен только благодаря переключателю ситуации –спетому в ритме марша кусочку шансона.
В чистом виде он безобиден и даже слегка похабен, сочетает интонацию жалобы с дурковатым содержанием. Довлатов подогнал текст к собственному рассказу. Структура семантических сдвигов, ясная на уровне подкорки, не поддавалась прямому и быстрому объяснению. Мы предложили группе несколько клипов с классической зековской песней – «По тундре». Из размера знаменитого северянинского миньонета («Это было у моря, где ажурная пена,/ Где встречается редко городской экипаж…»), от модуса мазохистской тоски по недостижимому она воспаряет к реальной угрозе:
По тундре, по железной дороге,/ Где мчится поезд «Воркута–Ленинград»…
Исполнение переводчика Николая Брауна (9 лет лагерей и ссылки) – феерическое – конвертировало черту недосягаемости «Воркута–Ленинград» в вектор возмездия, колесами поезда рассекавший территорию вечной боли. Двухчасовое чередование обеих песен и их исполнителей, фото, сведений о самих благородных «блатных» певцах, а также об участии этнических латышей в создании ГУЛАГа (первый начальник СЛОНа – Эйхманис; родитель РККА – Вациетис; комендант Кремля – Петерс; отец военной разведки СССР – Берзиньш; палач-рекордсмен – Петерис Магго…) – и вот уже интеллигентные латышские дети готовы блевать от русских «свинцовых мерзостей жизни», я – тоже: оттого, что как бы прикормил щенков и ну хреначить кувалдой по головенкам.
Условно говоря, дюжина сломалась, тринадцатая встала и спела. Сладковато-грубая фонетика условно взрезала ледяное молчание зеков. Позже перевод доверили бездарному менеджеру от литературы, она же, будучи редактором, боролась за качество, как могла. Я написал предисловие. Книжка не позорная, но ее не читают.
Kaikki on kunnossa2
Я вижу в поэзии латышей трех гениев: Александра Чака (1901–50), Ояра Вациетиса (1933–83), Юриса Кунноса (1948–96). Выписывая даты одной строкой, в ужас не прихожу. Добавлю к ним русских рижан: Алексей Ивлев (1956–2006) и Олег Золотов (1963–2006).
Были/есть другие дивные поэты. Во-первых, Герман Маргер Маевскис (1951–2001). Во-вторых, два «долгожителя», Улдис Берзиньш (1944–2021) и Янис, ныне здравствующий, Рокпелнис (*1945). Этим двоим – идолам моей молодости, – я на правах лечащего врача (переводчика) еще в одиннадцатом году недвусмысленно намекал, пора, мол, заткнуть фонтан стихосложения, ибо поэзия в нем закончилась раньше, чем жизнь. Жестоко: но и они поступали жестоко, убивая самих себя – прежних. Называю все эти имена, чтобы напомнить, сколь крепок поэтический дух маленькой страны. И расчетлив, и тлетворен. Отписался – на берег. Интересно другое. И Чак, и Вациетис, и Куннос (и Берзиньш, и Рокпелнис) имели сильную связь с русским языком. Не по принуждению – порождая в нем смыслы. И Чак, и Рокпелнис оставили несколько русских стихов, сравнимых со строчкой Рильке «я так один». Берзиньш и Куннос ваяли сами себе удивительные подстрочники. Вациетис зачем-то перевел «Мастера и Маргариту» (в этом выборе – весь Вациетис). Язык ответил взаимностью – так или иначе они сделались явлениями русской культуры. Два десятка переводчиков оформили пересадку на ее почву (Übersetzung verpflanzt also das Original … – Вальтер Беньямин), где они, похоже, до сих пор не засохли. В Латвии их планомерно забывают; даже песни на слова Чака поются, кажется, реже и реже. Оттого история отношений с русским языком Я. Каплинского выглядит загадкой. Я по косвенным чую, что эстонский поэт Яан Каплинский – велик, однако стать русским Яном не удалось. Три книжки были, на мой взгляд, провальными (хвалебная кампания – дружелюбная туфта). Переводчики, редакторы – достойные люди, но что-то пошло не так.
Либо же его «история» оказалась ложной (русский язык – позой, а не выходом). Придет день, и мы об этом поговорим.
Dutch Books3
Первым моим наставником случайно (для него) стал Кнут Скуйениекс (1936–2022), не самый интересный поэт, но чуткий критик и прирожденный переводчик. Семь лет он провел в мордовских лагерях, а потом еще два года в ссылке, после чего быстро вернулся в полноценную литературную жизнь Латвии.
В конце восьмидесятых Берзиньш попросил его проверить мои переводы. Москвич, русский, еврей, профан: не знаю, какая из ипостасей бесила Кнута сильнее. Но просьба Улдиса – закон, и он дал мне первые уроки «языковой асимметрии». Какое сочетание: поэт, переводчик и друг автора! Впоследствии дважды случалась еще более мощная комбинация: мой друг-поэт, автор и переводчик: латышка Майра Асаре (+2015) и цитированный выше Пестка (+2023). Но с ними я трудился фактически на равных, а тогда был потрясен. С тех пор я старался не позволить языку матери и языку среды слиться во что-то усредненное. Кстати, в СССР пионерами изучения языковых фронтиров в смешанных семьях были, если не ошибаюсь, эстонцы.
Я долго жил в ощущении наступающей смены парадигм: closed translation > open translation4, имея в виду не доместикацию и форенизацию5 – скорее, поиск баланса в условиях владычества Google и YouTube, когда можно послушать чужую речь и виртуально пройти по заграничному городу. Не успела смениться парадигма, как замаячила новая смена: волны книг; поспешные решения издателей; качество не релевантно, поскольку книги забываются быстрее, чем издаются, а затормозить процесс нельзя. В игру вступает новый персонаж, ИИ, и нет смысла предлагать издателю бóльшие сроки – вечно находится студент, который обработает машинный перевод. Я активно пользуюсь ИИ-переводчиком. Он в мириад раз начитаннее меня, надо только помнить, что он не человек, и не дать его языку сплестись с моим. Шизофренический Google в гугол раз полезней ChatGPT, пытающегося выдать себя за гуманоида и стереть разницу между rewrite и postedit6. Его выходки нередко вычленяют нетривиальные свойства фразы в контексте.
Дышать, сука!
Три примера и ведро дегтя.
Транслятор выдает немецкое Der Brigadier Sanja lud ihn zum Ficken ein und Grach lud ihn zu seiner Samosada ein (бригадир Саня приглашал к траху, а Грач – на свой «замозад») в ответ на оригинальное «Бригадир Саня угощал махоркой, Грач своим самосадом». Эротика в сознании ИИ ассоциируется с разрядкой после жесточайшего массового забоя оленей:
«Живых животных сильно убавилось, они ошарашенно и уже не так бодро плавали среди убитых. На лодке к ним не протиснуться было. Мертвые спасали живых.
<…>
– Давай перекурим, бугор?! – попросил Колян.
– Айда! – разрешил бригадир.
Сплылись. Бригадир Саня угощал махоркой, Грач своим самосадом».
(Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота»)
Реакция переводчика – внести в последнюю фразу определенный оттенок.
Еще чутче реагирует ИИ на передачу камеры повзрослевшим рассказчиком в свои собственные руки в качестве ребёнка.
Georgam bērnības atmiņas nav mīļas. Mammu viņš tikpat kā neatceras. Ilgi slimoja, nomira, kad Georgs gāja otrajā klasē. «Tagad tu esi bārenītis…» kāda tante teica viņam bērēs un mēģināja nopaijāt galviņu. Dzērāju tēvu viņš negrib atcerēties.
(Arno Jundze, «Un tu esi viens»)
[Георгу не милы воспоминания детства. Мать почти не помнится. Долго болела, умерла, когда Георг был во втором классе. «Теперь ты сиротка…» – сказала какая-то тетя на похоронах и хотела огладить макушку. Непросыхающего отца он не хочет вспоминать.]
Google, проницая душевную нечистоту «какой-то тети», не верит, что речь об одном и том же человеке.
«У Джорджа нет приятных детских воспоминаний. Он почти не помнит свою мать. Он долго болел, умер, когда Георг учился во втором классе. «Теперь ты сирота...» – сказала ему на похоронах тетка и попыталась оторвать ему голову. Он не хочет вспоминать своего пьяного отца.
Моя гордость – польский шедевр Романа Хонета (*1974) в исполнении ИИ.
jej zapach: wstyd i wiśnie – oddychaj,/ kurestwo
Сегодня обчитавшийся Google убивает брутальное и нежное признание: «ее аромат: стыд и вишня – дыши,/ шлюха». А восемь лет назад он сыграл чисто…
ее запах: стыд и вишня – дышать,/ сука
О дегте. Слон искусственного интеллекта боится мышей новой, инклюзивной повестки. В случае сомнений он определяет русский язык как украинский, а между мужем, мужчиной и человеком выбирает человека (чоловіка). Поедает различия между женщинами и женами, пикантные в русском, немецком, французском. Инструкции к программе верстки Adobe InDesign робот переводит инклюзивным языком.
Place End Of Story Footnotes At Bottom Of Text: Select this option if you want the last column’s footnotes to appear just below the text in the last frame of the story. If this option is not selected, any footnote in the last frame of the story appears at the bottom of the column.
«Сноски от конца материала в конец колонки. Если этот параметр выбран, то сноски в последней колонке появляются непосредственно под текстом в последнем фрейме материала. В противном случае все сноски в последнем фрейме материала выводятся в нижней части колонки».
По-человечески это значит (в исполнении Владимира Завгороднего, запорожского дизайнера и переводчика):
«Установив флажок Поместить примечания на последней странице под текстом, мы дадим команду программе не размещать примечания в самом низу последней страницы текста, а поместить их непосредственно после окончания текста».
В 2021 году Master Pages (страницы, задающие элементы макета) переименовались в Parent Pages, так как слово «мастер» попахивало расизмом.
О причастиях
Аншлав Эглитис7, «Homo Novus»: «Cik tas izskatās cēli – viņš augstsirdīgi atteicies no savas vietas par labu atraidītājai, atmaksājis ļaunu ar labu». Русский перевод: «Как благородно это выглядит – он великодушно уступил свое место в пользу отвергательницы, отплатив добром за зло». Отглагольное существительное atraidītāja в дательном – той, что отвергла (кого, что). Причастный оборот – «отвергшей [его]» – не работает: недостаточно феминно: женский суффикс есть, но он безударный. А на польском работало бы, правда, в настоящем времени: odrzucającej! На немецком можно образовать Neinsagerin, но это комично, в духе «новой агенды»8. Польские активные причастия звонки, лукавы; зачастую они определяют настрой предложения. Соответствующие им русские причастия обычно грубее, а немецкие вовсе невыразительны. Английские – манки и загадочны. Схожу с ума, услышав looking for the summer9, где looking – одновременно партицип и герундий10. Окологлагольная чехарда – вот одно из самых сильных полей переводческой власти.
Юный рижский гений Василий Карасев (он же kormak, *2001), «полевой» поэт, т. е. генерирующий не стихотворения или циклы, но поэтические поля, страдает от отсутствия причастий будущего времени. Его поддерживает в «Проективном словаре русского языка» Михаил Эпштейн, взывая к Греции, Риму, XIX веку и эсперанто и рассыпая прекрасные: прочитающий, поймущий, примущий…
«Храбрец, сумеющий победить дракона, получит в награду принцессу».
О деепричастии. «Я представила Вас ожидающим звонка – сидя на стульчике и со сложенными на коленках ручками, возле телефона. Все так и было, можно прослезиться?» Я был ужасно тронут, но ирония удалась не вполне, получалось, что на стульчике сидела автор письма. Надо было усадить меня на стульчáк; «на стульчакé» – акцент и звонкое «ч» отрубают фонетическое поле додефисной клаузы11, и «сидя» открепляется от глагола.
Василий Розанов, «Уединенное»: «20 лет я живу в непрерывной поэзии. Я очень наблюдателен, хотя и молчу. И вот я не помню дня, когда бы не заприметил в ней чего-нибудь глубоко поэтического, и видя что или услыша (ухом во время занятий) – внутренне навернется слеза восторга или умиления. И вот отчего я счастлив». Деепричастный оборот условия «видя что или услыша» не согласован с подлежащим «слеза». Зато дисклеймер12 «я живу в поэзии» развязывает автору руки. Отмерший у русских паратаксис13 – эллиптический, сказал бы я, паратаксис, – у латышей живет себе как «дательный самостоятельный»: [мне] видя или (услыша), навернется слеза = [man] kaut ko redzot vai sadzirdot – uzviļņojās asara. Это ослабляет степень восторга или умиления, но что поделаешь.
О сопричастии (à la Розанов). Язык дышит, пока готов отдавать и брать. У нас на глазах унижают латышский язык, избавляя от архаизмов, заимствований, уплощая порядок слов (не Каплинский ли тревожился о чем-то подобном?) и лишая его в конечном счете предикативности. Игорь Сид, создатель «Словаря культуры XXI века», занимающегося абсорбцией неологизмов, замечает: «Языки принимают не только чужую лексику, но и чужую грамматику – чужие правила игры». Как хорошо сказать на русском: Кай любит Герда (подразумевая, что и Герда любит Кай). Или: я буду купить (очень определенное, очень немецкое – я буду покупать и таки куплю). Практику предъявления индивидуальных условий к коммуникации также хочется расширить; kormak, к примеру, недавно требовал, чтобы к нему обращались исключительно в прошедшем времени, спрашивая утром: Вася, ты сегодня вечером пошел за пивом?
О непричастии. С тем, что происходит вокруг меня, не справиться так непосредственно, как с «вокруг Бобровского». Не заклясть, не ткнуть иглой. И все причастно всему, рвущемуся по швам. «Страшный сон постмодерна, – отмечал российский склеиватель узоров, писатель и режиссер Роман Михайлов, – существование глубинных связей между явлениями, которые на поверхности выглядят как хаос». Он садится в самолет и летит: «Провел в Мумбаи два дня, пообщался с математиками из TIFR. Рассказал об идеях хищных и жидких реальностей, самопоедающих, склеивающихся…» Хорошо бы цитатой показать, как запредельные реальности рождаются из рассыпания ощутимых. «…Обратная дорога оказалась чудесной. Не было облаков, весь полет над центральной Индией оказался прозрачным, чистым. Я смотрел на реки, изгибы, дома на тысячах километров. Первый раз видел Индию так, сверху, долго, ясно. Карта как спокойный организм, с банканади14, с внутренними озерами, городами».
Ex oriente lux15.
Мы – красные кавалеристы…
Впервые я плотно столкнулся с ними при переводе недооцененной книги Яниса Грантса «Луи с грабаркой» (издательство Марины Волковой, 2017) на латышский язык.
«Евневич трубит и трубит в трубу: «Мы-крас-ны-е-ка-ва-ле-рис-ты-и-про-нас». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!»
Дефисы помешали мне услышать очевидную, казалось бы, вещь. Спустя всего пару лет работа над переводом «Конармии» напомнила мне о песне, что пелась в пионерском моем детстве, в варианте – по памяти – «мы красная кавалерия». Несколько записей великих хоров внезапно изумили меня своей невольной, ненатужной, я бы сказал, агрессией. Затем одно камерное и одно детское заставили сердце истово забиться в неподдельной радости. С опозданием я сообразил: одаренный Д’Актиль (Носон-Нохим Френкель16) обязан был выдать созвучие, утирающее нос любому рэперу:
«Мы – красные кавалеристы,/ И про нас/ Былинники речистые/ Ведут рассказ…»
Хоры, в свою очередь, гремели, нейтрализуя рифму:
«Мы – красная Кавалерия,/ И про нас…»
Мало того, ударения вели к переосмыслению фразы: …истые – И про! Благородный корень, благородный префикс; замена «кавалеристов» кавалерией, людей – общей массой, с учетом переноса акцента на «нас» давала кумулятивный эффект. Три буквы против одной, невероятно.
С Исааком Бабелем связана одна из моих персональных загадок. Я прочитал его на границе школы и института, не помню, в каком издании, и с тех пор amo et odi17, восхищаюсь с оттенком отвращения (чем дальше, тем легче находившего оправдание в бесконечном объеме дряни, выливаемой на Бабеля – кем? да завистниками, скорее-то всего – циничен, развратен, а главное: дружил с ЧК, подсматривал за расстрелами). Наученный опытом, я решил пересмотреть свою внутреннюю аннотацию – о чем пишут? Ведь если вместо рыбы дадут колбасу, не предупредив об этом, любая колбаса покажется отвратительной.
Готов поспорить – и слова самого Шкловского мне в помощь: «Смысл приема Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит и о звездах и о триппере», – что концепция «образа автора» не работает в «Конармии». Сошлюсь на тонкого знатока русской прозы Артура Грабовского: «автор» не выступает как образ, а присутствует как неразличимый, но активный «слушатель повествования», в которое вмешивается тонкими деформациями или просто смещениями; в ходе письма «рассказчик» как бы возникает в качестве результата повествования и так постепенно становится партнером автора, однако автор не общается с ним, а лишь принимает на себя роль то «корректора», то «заведомого вредителя», иногда «дотошного психоаналитика» или «исповедника».
Принимает – сошлюсь на знатока психики соответствующего периода, interbellum18, автора «Возвращение на Голгофу» Бориса Бартфельда – с изумлением. Здесь разрывается «связь», не дающая покоя десяткам исследователей: между рассказчиком (Лютовым) и автором (Бабелем) нет не то чтобы знака равенства, меж ними – полупроницаемая стена. Последний изумлен фокусами рассказчика, транслирующего посыл, обратный к совокупной тезе Достоевского и Дмитрия Карамазова: все позволено, стало быть, Бога нет. В атмосфере одурения от дьявольского шепота и затаена гениальность текста – залог его парадоксальной, нечеловеческой чистоты: четко видя все сцены, всех героев, ты моментально втягиваешься в их дикий вояж, но по большому счету тебя никто и ничто не трогает…
Испуг, обида, неверие в экспериментальный вывод нарратора19 – тема «Конармии»: колбаса, не рыба. Выражение лица автора на тюремном фото (профиль, анфас) выглядит продолжением текстуального спора с нарратором и в силу этого адресовано абсолютному злу, а не нам с вами, в отличие от специфической современной литературы (одна из причин, по которой текст Бабеля остался светел и интересен новым поколениям). Когда кругом черным-черно, мы погружаемся в черноту и либо растворяемся в ней, либо доходим до дна и там, на дне, обнаруживаем божественные порядки. Лютов не растворяется, но и ничего не находит. Одно губительное вдохновение спевшихся рабов и бюрократий, их гибельный интернационал.
Сознание Мандельштама
«Ведь поэзия есть сознание своей правоты», – написал юный Мандельштам, критикуя Константина Бальмонта. В таком ключе я сказал о праве Бродского ругать Шевченко: ощущение неправоты другого бывает столь резким, что нужно зафиксировать его, чтобы закрыть гештальт. С этой точки зрения реанимированная поляками заочная «рубка» Пушкина и Мицкевича представляется боем воздушных асов: падающие обломки самолетов вредят гражданскому населению.
Поэт N., решив «с земли» поучаствовать в их дуэли, собрал семь русских переводов стихотворения Адама Мицкевича «Do przyjaciół Moskali» [К друзьям – русским, 1832], добавил туда свой перевод и прокомментировал, понимая «довесок» к III части «Дзядов» как выпад в сторону Пушкина и текста «Клеветникам России», этой невралгической точки националистов (так назвал мост королевы Луизы через Неман20 в предисловии к 4-томнику Иоганнеса Бобровского Эберхард Хауфе, имея ввиду, что каждая сторона трактовала этот мост слишком близко к сердцу). Комментарий сюжета двухсотлетней давности заставил опуститься еще ниже, к стилистике газеты «Правда»: «все российское образованное сословие; передовые русские люди; Ему <...> сложно было взглянуть на свою страну глазами человека другой культуры; универсальная формула русского патриотизма; Думается мне, что Пушкин – пусть лишь подсознательно – чувствовал…» Все это было бы смешно с научной точки зрения (Пушкин и Мицкевич – творцы различных магий; один практикует национальное, другой – надмировое; оба не извлекаемы и не «пересаживаемы переводом» на другую почву; Мицкевич – поэт звука, а Пушкин – пауз…), когда бы не было так грустно с точки зрения технической.
Поэт N., чувствуя – пусть лишь подсознательно – что подача и передача нездорóво ангажированы, принимается объяснять свои принципы перевода: «…я разбавил польские «женские» рифмы «мужскими», несколько смягчил «анатомические» реалии, но не отказался от них вовсе, и постарался наполнить перевод энергией, горечью, скорбью, яростью и любовью — этим бешеным коктейлем…» Талантливый поэт и культуртрегер, N., как переводчик, немного слон в чайном магазине, и написанное им о мужских и женских рифмах, является, в общем, нелепицей. Рифмуются не концы строк, а целые строки (сходясь к рифме как рельсы к горизонту). Женская рифма может звучать по-мужски и наоборот (рифма по природе трансгендерна).
Некому березу залома[-а]т[ь-]и,
Некому кудряву залома[-а]т[ь-]и…
Или даже:
A nikt z mogił nie korzysta,
Jeno wszczynający ruch,
Wieczny Rewolucjonista,
Pod męką ciał – leżący Duch!
Кто, что велит ему оправдываться? Да ровно то, что статус переводчика приравнен к статусу слуги, обслуживающего вендетту поэтов. Стало быть, даже покритиковать его перевод не будет уместно – покуда толмачей не возвели хотя бы в ранг секундантов!
(…Честно говоря, в самом сценарии заложен нонсенс: шляхетный Мицкевич вряд ли бы пытался из Дрездена уколоть невыездного Пушкина.)
100 лет одиночества
Свобода 1991 года освободила нас от контекстов, соседей и собеседников. Триумф национальных культур обернулся не торжеством вызволения, но радостью выведения себя из одного контекста в надежде войти в другой, чего, боюсь, еще не случилось. Чтобы не звучать имперским шапкозакидателем, скажу с большей уверенностью, что схожая судьба постигла культуру русских. Для многих известных мне творцов восприятие их творчества в тех странах, что теперь сладострастно именуют колониями, было значимым. Не ради одних выплат и отдыха в домах творчества – корыстолюбие тех лет отдыхает перед нынешним, – а из жажды отзвука, от тоски по отклику (нероссийский реципиент признавался стоящим на более высокой ступени интеллигентности). Не отстань уровень жизни в СССР от западного так безвозвратно, остался бы интерес к русскому как к языку общения? Мы расстыковались на не самом достойном, но все же уровне представлений друг о друге – он обречен упасть. И вновь по косвенным признакам (заведомо огрубляя): современной коллективной Эстонии почти ничего не известно о русской литературе; коллективной России об эстонской – совсем ничего.
Поколения поляков не могут читать Осипа Мандельштама, не умея не акцентировать второй слог от конца слова. Хуже – польское ухо незнакомо с «правилом жопы». В русских поэтических текстах зачастую не слово ставится, исходя из логики предложения, в тот или иной падеж или число, но предложение [под]сознательно строится так, чтобы слово встало в него в том или ином падеже или числе, пассивно меняя фонетику (как меняет ее в названии столицы Эстонии двойная «н»: для меня абсурдны попытки ее удвоить, тем более что в моем втором рабочем языке Таллин продолжает быть Tallina, хотя vanna сохраняет два «n»). «Малое правило жопы»: если в польском языке напряженность ударной гласной заднего ряда в местном падеже сохраняется, то в русском языке она падает:
dUpa <=> w dUpie / жООпа >> в жОпе
Данное правило должно было бы открывать полякам прелесть русской рифмованной поэзии (отнюдь не «скрытой шарманки», озаботившей Яана Каплинского) – не открывает. Вариант «правила жопы» мог бы позволить переводчикам латышской лирики врубиться: сочетание в окончаниях строк краткой и долгой гласной (a/ā) – тоже рифма, а перепад долгот – самодостаточный флажолет21 к ней. Увы.
Bet ir mums vajadzīgs
Vien samelojums m a z s,
Lai acis skaisti dzirkst
Kā senās g r ā m a t ā s …
(Jānis Rokpelnis, «Sila noslēpums»)
Перевод как институт разрешений
Или система запретов?
«Будучи по своей природе многоаспектным феноменом, довольно сложно детерминируется, но в качестве основы определенной репрезенции мира, легко узнаваем, поскольку… – пишет хорватская переводчица Саня Вершич в «Словаре культуры XXI века», статья «Язык вражды». – …старое средство, появившееся одновременно с возникновением базовой дихотомии «свой/чужой», – изначально было не только средством оскорбить противника, но и способом заглушить свой страх». В марте 22-го управляющая компания соцсетей «Фейсбук» и «Инстаграм»22, в России оперативно запрещенных, «временно и локально» сняла ограничения в отношении «языка ненависти». Русская Википедия (ссылка на Русскую службу BBC): В качестве примера высказывания, которое раньше было запрещено, а теперь разрешено, компания приводит фразу «смерть российским оккупантам»… <…> Также в некоторых странах разрешат посты с пожеланиями смерти российскому и белорусскому президентам. В список стран, в которых будет действовать новая политика, входят Армения, Азербайджан, Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина и Эстония. Фактически отдельным странам 2-го и 3-го мира разрешили заглушать свой страх, а 1-му миру то ли не страшно, то ли не к лицу терять лицо. Из внятных мне Википедий об этом упоминает лишь немецкая (ссылка на Tagesschau). Эстонская, согласно переводчику Google, молчит, а латышской и литовской Википедиям язык вражды неведом.
Переводчик редко обслуживает равносильные языки, разве что англо-китайский. Но в таком случае запретов еще больше, система разрешений еще сложнее. Языки не просто асимметричны, они глубоко неравноправны. Нам посчастливилось застать смену парадигм: от контрабандиста к таможеннику. Один перетаскивал через границу разрешенное, другой выбрасывал запрещенное. Фокус стал смещаться от процесса к субъекту, и тут его накрыла парадигма коллективного интеллекта. Временно и локально 4-ю оккупацию встречали цветами, как советские танки в сороковом, как открытые шлагбаумы в четвертом. Но политика соцсетей объясняет, к чему дело идет. Переводчики шутят про Красное Шапочко, а инклюзивному языку до фени лингвоэтика: это типичное средство подавления воли, среда информирующих описаний, в которой режим обращается к личности не как к рабу (черный сталинский репродуктор) – как к насекомому.
Предчувствие новых границ заставило мечтать об обновлении стратегий. Хранитель или нарушитель – метафраст23, homo. Внимание нужно привязать к нему, персонификатору системы запретов и разрешений. Метафора паромщика: Харон уже есть список допусков. С другой стороны, ИИ переведет всё, оригинал в каком-либо виде попадет на тот берег. Переводчик проецирует на свой перевод вопрос о меньшем зле – чем пожертвовать? Google доставляет хаотически, россыпью, рвет упаковки, переводчик часть упаковок вскрывает, часть задерживает: в каждом случае его система недопуска имеет уникальные последствия. Языки: принимающий и выпускающий; донор и реципиент; меценат и подопечный. Сюда вклинивается еще один троп: Восточная Европа как метафора перевода – между Востоком и Западом. Неинтересная для Востока, презираемая Западом, стесняющаяся сама себя.
Я – ее житель.
Гниды клитик
Болевая точка современного перевода – фонетика. Я из большого гОрода >>>> я из маленького городкА. Jestem z dużego miAsta >><< Jestem z małego miastEczka. Язык вражды часто апеллирует к фонетике: ватник, sans/-/culottes, укроп, либераст, atkrieviskot [«отруснить»]. Фонетика тонирует, модулирует, искажает смысл. Наш цех ответственен за это (фигура умолчания). Лепя стереотипы, мы пестовали взаимно-усеченное понимание – в конечном счете неприятие. Если долго переводить гендерные американские романы нашего века языком Вильяма Фолкнера (т. е. Виктора Голышева / Владимира Бобкова), естественно родится образ «пиндоса», врага рода человеческого. Поток перевода с русского на немецкий в течение прошлого века не помог немцам осознать простейшее: мы – другие. Лишь внешне похожи, да и то не очень – не надо мерить нас на свой аршин. Перелагая латышей и поляков, я кое-что сгладил, кое-чем пренебрег, чего-то не заметил: «из меня» хрен узнаешь, откуда росли ноги сегодняшней огненной русофобии – задолго до Крыма и до февраля. Кто, как не мы, свели литературу сорокамиллионной страны к Андруховичу и Жадану, авторам постсоветским, думающим по-русски, но вместо «и» использующим букву «i» – чтобы теперь пожинать плоды Язонова огородничества?
И опускаются руки перед лицом ускользающей красоты:
Кравці лисицям хутра шиють,
вітри на бурю грізно трублять.
О боже, стережи в завію
і людські, і звірячі кубла.
У сто млинах зима пшеницю
на сніг сріблясто-синій меле.
Назустріч бурі ніч іскриться,
провалюючи небом села24.
Фонетика как средство распознавания свой/чужой, шибболет25. На горе Арарат растет красный виноград. Soczewica, koło, miele, młyn26! Лакмусовая бумажка социума: фонетика «отрусевающего» латышского (подчеркнутость долгих и широких гласных), тоталитарного русского (заданная порядком слов) или тоталитарного немецкого (заданная выбором синонимов). Она будто пес, сбивающий отару для пастухов, ибо волки близко.
я с мамой иду по улице
мы с мамой идем по улице
я и мама идем по улице
По-немецки два варианта:
Ich gehe mit meiner Mama die Straße entlang
Mama und ich gehen die Straße entlang
Ich und meine Mama gehen die Straße entlang
И по-латышски два:
es ar mammu eju pa ielu
es un mamma ejam pa ielu
mēs ar mammu ejam pa ielu
Не знаю, с какой стороны подобраться к вопросу – наверняка штука не в глагольной парадигме, а в поведении предлога «с», этой маленькой клитички27. Одна-единственная буковка правит бал в моей голове. Я поговорил бы о предлогах в немецком, об их взаимной мутации, не раскодируемой без чужой помощи, о für и vor28 в древних значениях направления и состояния покоя, в наши дни меняющихся местами, о тенденции синтетических языков к аналитичности, о трудностях оценки случайно сгенерированных – на разрыв семантики – слов в неродном языке, о «пережитой речи», эпическом прошедшем: «завтра была война» (Онегин не спал – завтра предстояла дуэль с Ленским), но куда там.
Смотрю на эти буквы
Öö on valge öö on väga valge29
и понимаю менее чем ничего.
_____________________________
1Иоганнес Бобровский. Тенеречье: избранные стихотворения / Сост., пер., комментарии Сергея Морейно, Калининград, 2016. – 195 с.
2Всё в порядке (фин.).
3Это понятие встречается в теории вероятности и экономике. Ситуация, когда набор ставок или коэффициентов устроен таким образом, что гарантирует прибыль, независимо от исхода события.
4От закрытого перевода к открытому переводу (досл. с англ.).
5Переводческие стратегии.
6Переписыванием и постредактированием (досл. с англ.).
7Латышский писатель, журналист и кинокритик (1906–1993).
8Agenda – повестка дня, new – новый (англ.).
9В поисках лета (англ.)
10Грамматические термины, формы глагола в английском языке.
11Грамматические термины, формы глагола в английском языке.
12От англ. «disclaim» – «отказ от ответственности». Короткое сообщения о том, что автор не несёт ответственности за возможные последствия, связанные с дальнейшим использованием информации.
13Способ построения сложного предложения или техника в поэзии, когда предпочтение отдаётся простым коротким предложениям.
14Плутающая река, соединяющая озёра.
15С востока свет (лат.).
16Советский поэт-песенник, драматург, писатель-сатирик и переводчик.
17Люблю и ненавижу (лат.).
18Люблю и ненавижу (лат.).
19Лицо, от имени которого ведётся повествование.
20В городе Советске, бывш. Тильзите, мост то соединял, то разъединял Германию и Литву.
21Приём игры в музыке; лёгкий, мягкий звук.
22Запрещены в РФ.
23Пересказыватель (досл. с греч.).
24Богдан-Игорь Антонич, «Зима» (1935).
25Своеобразный речевой «пароль», неосознанно выдающий человека, для которого язык – неродной.
26Польская скороговорка. Чечевица, колесо, мельница мелет (досл.).
27Клитика – слово, грамматические самостоятельное, но фонологически зависимое.
28Немецкие предлоги, которые имеют разные значения и перевод на русский язык в зависимости от контекста.
29Первая строка стихотворения Яана Каплинского: Ночь белая ночь очень белая (досл. с эст.).
