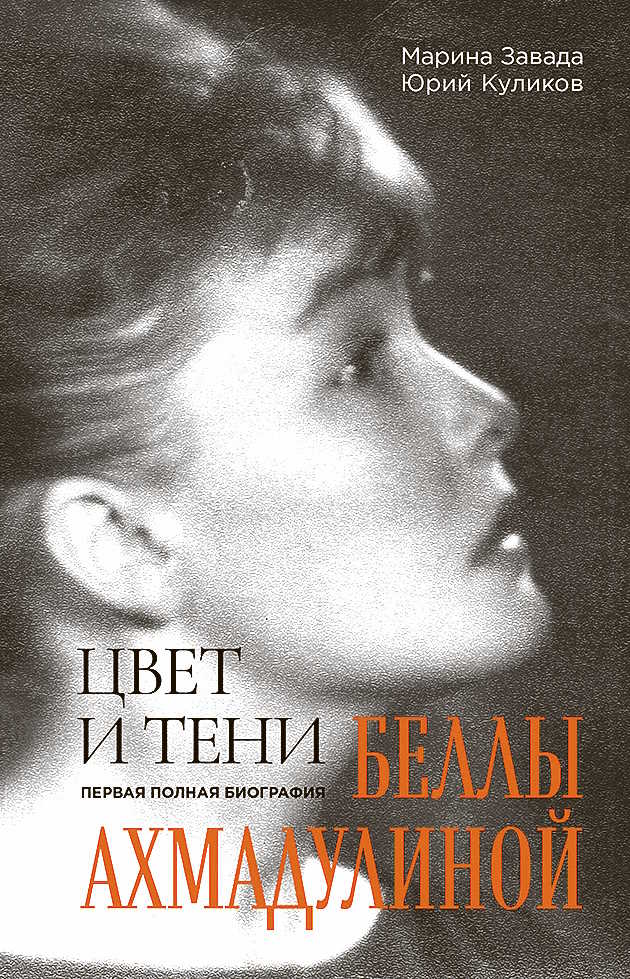
<…> Вторым рецензентом Ахмадулиной [при поступлении в Литинститут в 1955 году] был поэт Александр Коваленков. Его отзыв, относительно сдержанный по форме, наполнен упреждающим соревновательным духом: «Прошу приёмочную комиссию Литературного института в случае, если И. Ахмадулина будет принята, зачислить её в мой семинар. Все представленные ею стихи говорят о несомненной талантливости автора, о больших лирических возможностях. Примеры были бы слишком многочисленны. Тетрадь стихов Ахмадулиной от начала и до конца позволяет радоваться, что к нам в институт приходит такое хорошее пополнение».
«Пополнение» ещё моталось [по заданию газеты «Метростроевец»] электричкой на станцию Лось, а за него [в институте] на Тверском бульваре уже шла подковёрная борьба.
***
<…> Пройдёт учебный год, и Коваленков, добившийся, чтобы Белла попала в его творческий семинар, в характеристике для деканата станет холоднее в оценках. На его взгляд, «весьма положительные отзывы И. Сельвинского и других крупных профессиональных поэтов способствовали появлению некоторого ажиотажа вокруг имени молодой поэтессы. С первых же дней занятий на семинаре у Ахмадулиной появилась тенденция выделить себя из товарищеской среды, игнорировать критические замечания участников семинара на коллективных обсуждениях. С этим пришлось бороться <…>
Ахмадулина, несомненно, одарённый человек. У неё неплохой, но уже, к сожалению, несколько рафинированный вкус. Ей нравятся такие поэты, как М. Цветаева, Б. Слуцкий, т.е. то, что имеет весьма приблизительное отношение к реалистической манере письма. Не владея ещё элементарными приёмами поэтического мастерства, Ахмадулина стремится к «словоновшествам», формалистическим ухищрениям. Искренность и непосредственность, умение нарисовать наблюденное и увиденное – основные положительные качества поэзии Ахмадулиной, но, повторяю, к сожалению, эти качества развиваются искривлённо, а не прямолинейно. Для того чтобы талантливость Ахмадулиной не превратилась в пустоцвет, надо будет, думается, приложить немало усилий. Зерно хорошее. Задача в том, чтобы окружить его плодоносящей почвой».
Что говорить, к концу второго семестра Белла была уже не той осчастливленной дебютанткой, которая, по рассказам её однокурсницы Галины Лебедевой, в муаровом фиолетовом платье (так это не поэтический образ: «мой наряд фиолетов, / Я надменна, юна и толста»?!) с цветочками в глубоком вырезе – такие крепдешиновые цветочки в разгар пятидесятых были в моде у девушек – вошла через свежеокрашенные зелёные ворота в чудный тополиный скверик перед дворянским домом, где родился Герцен.
<…> С Ахмадулиной… в характеристике [Коваленков], похоже, накручивает. Или – бежит впереди паровоза. Всё-таки на первом курсе Белла ещё наивна, доверчива, охотно носит комсомольский значок и вместе с однокурсниками Юрой Панкратовым и Ваней Харабаровым выбрана деканатом, чтобы по заданию ЦК ВЛКСМ сочинить приветствие пионеров ХХ съезду партии. В личном деле Харабарова сохранилась записка в учебную часть: пропустили занятия по уважительной причине, о чём «Иван Николаевич знает». Иван Николаевич, с провинциальной непосредственностью названный без фамилии, это Серёгин – зам. директора Литинститута. Всей упомянутой троице вскоре он много попортит крови, да и они ему тоже. Но кто ж тогда, кроме Бориса Леонидовича, печалился, что «продуман распорядок действий»? В институтских коридорах пахло оттепелью, а от Беллы – «Красной Москвой». Говорили, духи подарил Женя Евтушенко. Он учился на четвёртом курсе, успел выпустить два поэтических сборника и, не стесняясь, пижонил. Насколько тяжёлый дамский парфюм подходил к дешёвенькому бежевому костюмчику фабрики «Большевичка», который носила первокурсница с уложенной на голове пепельной косой, Женя не разбирался. А Белла… Долгая жизнь врозь минует, прежде чем в обессмерченном Феллини фешенебельном итальянском Гранд-отеле, где никто, кроме наших соотечественников, не догадывался, что идущая по холлу шикарная немолодая женщина в шляпе – великий русский поэт, ей вслед будут почтительно оборачиваться.
***
<…> Летом 1957 года Евтушенко пишет в Тюмень ленинградскому поэту Владимиру Британишскому, с которым в то время вёл переписку: «Я сейчас один, совершенно один – жена уехала на 3 месяца на целину (с институтом). Её и ещё 3-х исключили условно, Юнну Мориц исключили совсем». Сам молодой муж уже с весны не студент. Ему припомнили «до кучи» и то, что не выполнил своего обещания при поступлении в Литинститут – в течение года представить аттестат зрелости, без которого приняли на первый курс, зачтя вышедшую книгу «Разведчики грядущего» и вступление в Союз писателей. И то, что не ходил на занятия, не явился на зимнюю сессию, и хвосты, хвосты, хвосты. Могли бы и раньше отчислить штрафника-понтярщика, а отчислили практически сразу после мартовского обсуждения в ЦДЛ романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» <…> Впоследствии Евгений Александрович говорил, что из института его отчислили за поддержку Дудинцева. Не только, как видим, однако без этого, без Дудинцева – не факт, что отчислили бы. Восстановился он лишь спустя сорок три года. Некогда было и вроде как незачем. Но в 2000-м – Евтушенко уже почти десять лет преподавал в университете американской Талсы – стал «студентом-экстерном» Литинститута. Получил диплом. Отчего бы не поделиться с недальновидной alma mater своей нынешней славой?
А к маю 1957-го, когда Женя и Белла расписались, и у неё, как ясно из письма Британишскому, в вузе возникли проблемы. Во-первых, физкультура. Прямо-таки злополучная для Литинститута. <Дочь Ольги Ивинской> Ирина Емельянова рассказывала, что вскоре после смерти Пастернака КГБ затребовал на неё характеристику, и Серёгин, выросший до директора, проинформировал: «Способности средние. Не имела зачёта по физкультуре». Вряд ли серёгинское усердие ужесточило уголовное наказание Емельяновой, Белле же за три года до того из-за пропусков физкультуры пришлось письменно оправдываться и уверять: «Обязуюсь в следующем семестре посещать занятия и осенью сдать зачёт». В итоге к сессии Ахмадулину допустили, экзамены она сдала прекрасно, но приказ от 27 июня за подписью Серёгина как-то несоразмерно немилосерден: «Вопрос о переводе на 3-й курс отложить в связи с академической задолженностью». Звучит по отношению к зачёту по физкультуре громковато, однако дальше всё разъясняется: «…указать Ахмадулиной на наличие нездоровых мотивов в её творчестве и выступлениях и предупредить, что отсутствие идейно-творческого роста может стать препятствием для дальнейшего пребывания в институте». Вот, собственно, и главное.
***
<…> У Микеланджело Антониони, с которым Ахмадулина лет через двадцать будет время от времени общаться в Москве и Италии, в «Идентификации женщины» есть фраза: «Семейная жизнь – это посягательство на жизнь частную». Едва ли Белла, первый раз выйдя замуж, даже с её склонностью к внутренней обособленности, ощущала что-то похожее. Разве что пирожные иногда приходилось прятать на полках за книжками Пруста. Евтушенко считал, что ей надо похудеть, впрочем, когда мы его спросили об этом, засмеялся: «Это всё были шутки» <…> Если кто из молодожёнов и воспринимал брак как некое покушение на свою свободу, то не Белла – Евтушенко. Зоя Богуславская, говорившая о его эгоистичном желании оставаться в семье вольной птицей, без осуждения (а что осуждать, когда быльём поросло?), заметила: «Женя по молодости в общем-то плохо обращался с юной Беллой. Считал себя свободным человеком, мог не явиться домой, куда-то улететь, не предупредив, а она сидела одна». Но это будет не сразу. И в раскаянии Евтушенко безжалостно скажет о себе: «…своей любви небрежный страж».
А после приезда Беллы с целины они радостно обустраивали быт. Купили складную тахту и два письменных стола. Поставили их впритык – чтобы, сочиняя стихи, видеть друг друга. Белла сидела спиной к окну, Женя напротив – лицом к окну и жене. Комната [мамы Беллы] Надежды Макаровны подверглась решительному апгрейду. На стене появился женский портрет Анатолия Брусиловского. Мелькнул и исчез рисунок Льва Збарского <…> Гостей (а их через «пенал» прошло несчитано) особенно завораживало большое полотно, изображавшее на синем фоне тянувшиеся из верхнего левого угла две тонкие женские руки. Навстречу им снизу из правого устремлялись две менее бледные – мужские. Картину преподнёс Белле с Женей Юрий Васильев (это ему посвящено стихотворение Ахмадулиной «Гостить у художника»)… Сейчас «Руки» – в Музее-галерее поэта в Переделкине, а в 1960-м, расставаясь с Ахмадулиной, Евтушенко упомянул в стихах символичную для их отношений картину: «И, вытянутые над бездною, / Где та же, та же немота, / Не смогут руки наши бедные / Соединиться никогда».
<…> В маленькой семье «на подработках» старался быть Евтушенко. В «Братской ГЭС» сожалеет: «понамарал я столько чепухи… / а не сожжёшь: по свету разбежались». Белла не так плодовита, да и сложно её представить даже в юности ходившей по редакциям и предлагавшей написанное. (Как-то спросили: «Случалось, что уже в наши дни вам отказывали в издании поэтического сборника?» Пожала плечами: «Я же никому ничего не предлагаю. Если бы я лезла повсюду, то, вероятно, мне бы отказывали: «Идите вы! У нас другие авторы’». Но я не лезу. Это меня просят».)
<…> Стипендия уходила на мелкие расходы. Крупные взяла на себя Надежда Макаровна. В Нью-Йорке она жила в самом центре и, обожая шопинг, в свободное время шерстила магазины Манхэттена. [Дочь Ахмадулиной] Лиза, смеясь, рассказывала: «Бабушка была такая франтиха! Моя мама, которую та сделала модницей, ей в подмётки не годилась». Из Америки присылались чемоданы, сундуки с нарядами. Так что не столько любивший пощеголять «привозным» Евтушенко, сколько его молодая жена бросала окружающим вызов. Красное пальто с пуговицами на спине вызывало у одних восторг и удивление, у других – почти классовое негодование. В стенгазете появилась карикатура на Беллу в пальто со словами: сделано в США. Плоско, пошло, но, как говорила в подобных случаях Ахмадулина, внимание публики только бодрило.
***
<…> Белла и Женя расстались, но никогда они не отзывались друг о друге плохо, как сплошь и рядом бывает с разошедшимися парами. Ахмадулина долго не говорила о Евтушенко ни слова. Один раз, в Репине, телевизионщики брали у неё интервью, и журналист робко задал вопрос относительно первого мужа. Она почти беззвучно, только губами и взглядом, полным недоумения: «Разве это было?» – пресекла всякую возможность продолжения темы <…>
И всё же для нас важнее, что расставание Ахмадулиной и Евтушенко вылилось для поэзии целой россыпью подарков. У него, кто ж не знает, «Вальс на палубе»… Она же в 1960-м написала почти всенародное:
А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.
<…> 29 декабря 1960 года на третьей странице «Московской правды» по заведённому тогда порядку было опубликовано объявление: «Евтушенко Евгений Александрович, прож.: 4-я Мещанская ул., 7/19, кв. 2, возбуждает дело о разводе с Ахмадулиной Изабеллой Ахатовной, прож.: Новоподмосковная ул., 25/1, кв. 9. Дело подлежит рассмотрению в нарсуде Тимирязевского р-на Москвы». Сухой газетный текст. И – маленький шедевр Изабеллы Ахатовны:
Мы расстаёмся – и одновременно
овладевает миром перемена…
Окончательному разрыву предшествовало появление в жизни Ахмадулиной Юрия Нагибина.
***
<…> На его [Юрия Нагибина] даче, построенной на первый киношный заработок в середине пятидесятых, Ахмадулина поселилась в 1960 году. Дом на Южной аллее и сегодня выглядит небедно на фоне особняков, появившихся в последние десятилетия. А уж тогда… Жена Павла Антокольского – Зоя Николаевна радовалась, что у всех «такие красивые дома», мать же Нагибина слушала и посмеивалась, ибо была уверена, что красивый дом только у них. В одной бумаге, сохранившейся в РГАЛИ (то ли характеристика Ахмадулиной, то ли полудонос), сообщается: «В настоящее время замужем за Нагибиным. Они зиму и лето живут на даче… Их расположенная среди леса вилла обставлена со вкусом и украшена картинами и скульптурами молодых русских модернистов. Ахмадулина очень занята собой, одевается модно, часто носит брюки и спортивные блузы. Любовь ко всему иностранному подчёркивается во всём, от таких мелочей, как американские сигареты, до вкусов м предпочтений в области искусства».
С [улицы] Новоподмосковной [в Красную Пахру] Белла уехала ещё и потому, что из Америки вернулась Надежда Макаровна. Работая в советской миссии в ООН, мать Ахмадулиной (не забудем: «гордая и принципиальная») в каком-то конфликте вступилась за коллегу, начальству это не понравилось, так что загранкомандировка закончилась раньше срока, а в марте 1962-го Н.М. Лазареву и вовсе уволили из КГБ. Знающие люди предполагают: в те годы шла шелепинская чистка, избавлялись от всех, кто работал в органах в ежовско-бериевский период, и, хотя Надежда Макаровна «никем не руководила, не была ни в чём замешана», в пятьдесят один год её отправили на пенсию. Жить она стала на Новоподмосковной. Поскольку Белла всё больше конфликтовала с матерью, переезд в Красную Пахру пришёлся впопад. Официально брак с Нагибиным она оформила только 30 августа 1963 года, до этого же, ещё в сентябре 1961 года, Юрий Маркович в заявлении в отдел кадров Союза писателей СССР просил «считать моей фактической женой Б.А. Ахмадулину». Зачем штамп в паспорте? Достаточно любви:
В рубашке белой и стерильной,
Как марля,
Ты приник к столу.
В глубокой нежности
старинной
К тебе –
Я около стою…
Нагибин и в сорок лет был обаятельным, остроумным плейбоем, прозаиком талантливым, хорошо образованным, востребованным. Его ценили набиравшие вес сверстники Ахмадулиной. <…> Даже Евтушенко, про «развращающее влияние» которого Нагибин написал в связи с Беллой, в разговоре с нами старался быть объективным: «Нагибин и вся его семья влияли на Беллу. Юра был богатым человеком и при этом кухонным антисоветчиком. Полностью антисоветским дома и полностью советским во множестве сценариев. Эта раздвоенность размывала его совесть. Впрочем, в одном фильме он поднялся над своей раздвоенностью. Фильм, правда, очень хорош. «Председатель» с Михаилом Ульяновым в главной роли» <…>
Елена Евтушенко [сестра поэта] свои первые студенческие каникулы провела по приглашению бывшей золовки в Красной Пахре. Двухэтажная дача, шофёр, две домработницы, садовник, приходящая молочница. Обстановка у Нагибиных показалась респектабельной, почти бюргерской: «Там среди антикварной мебели царила строгая Ксения Алексеевна, которая и величалась хозяйкой дома. Она недружелюбно относилась к Белле и как бы в противовес подчёркнуто ласково обходилась со мной». Нагибин работал методично, никогда не нарушал договорных сроков, выдавал пять страниц в день – аккуратно по норме. Даже когда умирала мать, «а с нею умирал я сам», писал не меньше четырёх страниц. Обед ровно в три, два раза в день по расписанию – короткий сон, три раза – прогулки. Белла предпочитала тишину второго этажа, первым узнавшего посвящённый Нагибину «Сентябрь»: «И мы увиделись. Ты вышел из дверей…»
Там же, уединившись на втором этаже, Ахмадулина вывела на новой толстой тетради два слова: «Дневники. Проза». Жаль, пахринские записи прекратились довольно скоро – через три года. Но и то, что сохранилось, показывает: в прозе Ахмадулина по меньшей мере не уступала Нагибину, чьё влияние на неё в те годы было огромным.

«Не соглашалась, если называли
шестидесятницей, презирала
корыстолюбие, не любила анекдоты
и умела укоротить любого,
кто вёл себя развязно.«
