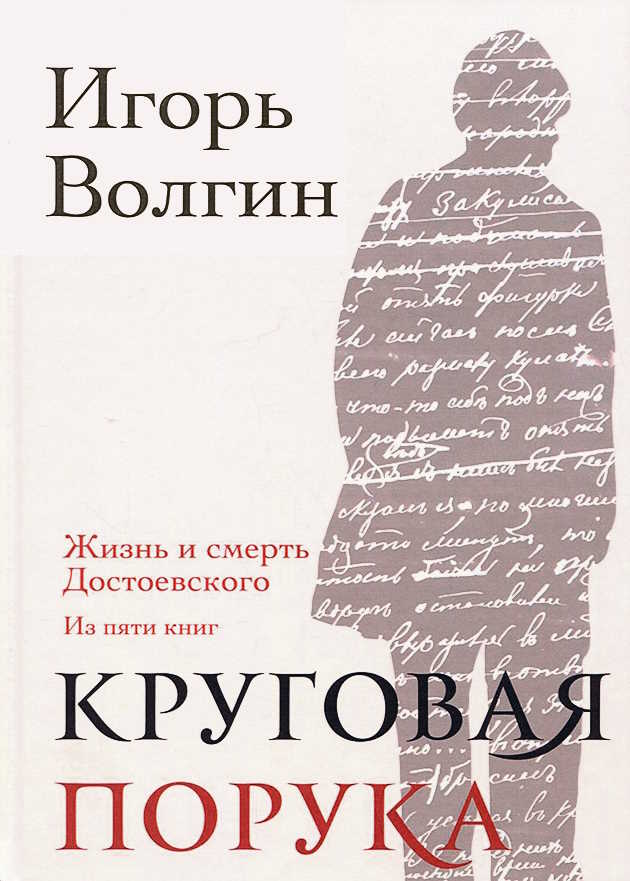
Игорь Волгин. Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг). – М.: Культура, 2023. – 870 с. – 1000 экз.
Начну с издательской аннотации.
«Игорь Волгин – историк, поэт, исследователь русской литературы, основатель и президент Фонда Достоевского. Его книги, переведённые на многие иностранные языки, обозначили новый поворот в мировой историко-биографической прозе.
Настоящее издание является своего рода путеводителем по нескольким фундаментальным работам автора. Основанная на многих неизвестных или малоизученных обстоятельствах, эта книга позволяет представить жизнь и смерть Достоевского как непреходящую национальную драму».
Всё это не рекламное преувеличение, а, что называется, медицинский факт. Но книга эта не просто путеводитель – я бы назвал её экстрактом или квинтэссенцией, если бы не был уверен, что в могучем волгинском пятикнижии – «Родиться в России», «Пропавший заговор», «Ничей современник», «Странные сближенья», «Последний год Достоевского» – остались «неохваченными» не менее важные идеи и факты. Однако «Круговая порука» выявила их круговую поруку – их взаимодействие, создающее синергетический, системный эффект, как это всегда и бывает в настоящем художественном произведении. А книга Волгина – произведение, несомненно, художественное при всей её роскошной документальности. Художественное воздействие создаётся не только историческим материалом, в котором есть и жизнь, и слёзы, и любовь в таких количествах, которым иной раз могла бы позавидовать и мелодрама (притом что всё это чистейшая правда!), но и живой авторской интонацией. Мы постоянно слышим голос повествователя, часто окрашенный мягкой иронией: «Те, кто осведомлён об интимных предпочтениях маркиза, готовы усмотреть в таковых описаниях сугубо прикладной смысл» (о восторгах маркиза де Кюстина по поводу мужской красоты Николая Первого), «В своих письмах из Сибири Достоевский всегда твёрдо указывает возраст избранницы – на три года меньше истинного. Эта хронологическая поправка, надо думать, заслуга самой Марьи Дмитриевны».
Но доступна повествователю и сдержанная патетика: «Он – в моде. И высший свет, как всегда, чутко реагирует на эту очередную моду, не подозревая о том, что силою обстоятельств он вынужден рассматривать предмет своей благосклонности именно в высшем свете, что на сей раз внимают не переменчивому настроению минуты, а уже ощутимому дыханию вечности».
«Сей», «внимают», «силою», а не «силой» – стиль Волгина окрашен и едва заметной изящной архаичностью, более чем уместной в повествовании о золотом веке русской литературы.
Но почему золотом? Это же был век, когда за предвкушение будущих гармоний (Салтыков-Щедрин) могли приговорить к расстрелянию. Карнавальному, к счастью, но к каторге более чем реальной. Когда за туманные вычурности во вполне благонамеренной статье могли закрыть журнал и разорить его издателя. Когда бесконечные придирки цензуры вызывают в памяти мудрый завет Макиавелли: не наноси малых обид, ибо за них мстят, как за большие. О крепостном праве и телесных наказаниях уже и не вспоминаю, чтобы не прибегать к слишком уж крупнокалиберной артиллерии: и без того ясно, что эпоха через край полнилась страданиями и унижениями. Но это была эпоха невероятного взлёта человеческого духа, и книга Волгина – настоящий гимн этому духу. Через тернии к звёздам – при всей затасканности этого изречения оно вполне применимо к судьбе Достоевского.
И не только его.
«Очевидно, мы имеем дело с одним из интереснейших парадоксов русского общественного сознания.
Трём российским гениям – Гоголю, Достоевскому, Толстому – в какой-то момент становится мало одной литературы. Они вдруг начинают стремиться к тому, чем писатель как будто бы вовсе не обязан заниматься: они желают установить новое соотношение между искусством и действительностью. Они жаждут воссоединить течение обыденной жизни с её идеальным смыслом, сделать этот смысл мировой поведенческой нормой».
Можно иронизировать над тем, что этим титанам было мало создавать совершенные «тексты», можно даже отыскивать, чем их религиозные в своей сущности искания повредили их «художественности» (знать бы ещё, что это такое), но без этих исканий не было бы и титанизма. Сведйние литературы к чистой эстетике, подобно сведйнию науки к чистой прагматике, – это путь к измельчанию и деградации. Заоблачно гениальный Пуанкаре это понимал: не наука нужна для того, чтобы производить полезные машины, а машины нужны для того, чтобы доставить досуг для занятий наукой. Не нужно писать о пользе астрономии для мореплавания – «нет, астрономия полезна, потому что она величественна, потому что она прекрасна, – вот что надо говорить. Она являет нам ничтожность нашего тела и величие духа, умеющего объять сияющие бездны».
Ничтожность тела и величие духа – я думаю, именно этот контраст вызывал доходящий до экстаза благоговейный восторг аудиторий последних месяцев жизни Достоевского. «Некрасивое, болезненно-бледное лицо», «с некрасивым и на первый взгляд простым лицом»… И о его триумфальной Пушкинской речи очевидцы вспоминают, начиная с этого контраста.
«Он вспоминается мне невысоким, тщедушным, с лицом бледным, напряжённо сосредоточенным и неприветливым».
«Взошёл на кафедру невзрачного вида, тощий, согбенный человек, с изжелта-пергаментным, сухим, некрасивым лицом, с глубоко впавшими глазами, под выпуклым, изборождённым морщинами лбом».
И после провозглашения пророчества о всемирном единении людей – «рёв», «вопль восторга», «незнакомые люди плакали, рыдали, обнимали друг друга».
Не случайно же, тонко замечает Волгин, круг особенно преданных почитателей Достоевского составляют женщины, которые «любят ушами», а круг почитателей Толстого – мужчины-идеологи. Синергетический эффект иногда порождается и контрастом: сопоставление этих антиподов – Толстого и Достоевского – неожиданно открывает, что проповедник земной естественности Толстой в собственной семье был отчуждённым олимпийцем, а вечно уносящийся в заоблачные выси Достоевский был естественнейшим любящим мужем и отцом, что было очень нелегко при его болезненной раздражительности. И расстался он с жизнью без всякой аффектации, соблюдая все положенные ритуалы и даже поинтересовавшись, успела ли пообедать Анна Григорьевна.
Тоже бесконечно трогательная в своей наивности и преданности «круговая порука» ещё и гимн женской любви. Этот пророк и учитель для любящей жены чуть ли не маленький ребёнок, на которого можно обижаться, но в конце концов всегда прощать.
На похоронах Достоевскоговсе снова объединились и простили друг друга, либералы и консерваторы, славянофилы и западники, ненадолго если не осознав, то ощутив, что есть нечто несравненно более важное, чем все политические программы, которые суть не более чем технические средства, но никак не цели, что есть в мире нечто несравненно более высокое – величие человеческого духа, величие человеческого гения.
С этим ощущением и заканчиваешь читать замечательную книгу Игоря Волгина. И вспоминаешь бесконечные дискуссии, какими должны быть учебники истории, которые не чурались бы жестокой правды и всё-таки рождали любовь к своей стране, – вот такими они и должны быть.

